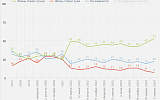КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ издавна ставится особняком в истории русской философии, вообще русской культуры.
Не потому ли его так легко обминуть современной отечественной мысли? Обминуть, обогнуть, точно остров, что лежит одиноко на немагистральных путях, чуть мерцая загадочным и туманным, психологически "неактуальным" для нас светом... "Идеи его были исключительны и неудивительно, что не принялись", "У него не было последователей, как, в сущности, не было и предшественников"; и даже: "Теперь очевидно, что никакие идеи Леонтьева не привьются..." - вслед Розанову принято думать. Так что он даже и не остров, а комета или метеорит, сгоревший в пространстве!..
Ясно, что такой взгляд мало подвигает к изучению как задаче насущной. К постижению "одноразово цветшего" папоротника или еще какого растения, что росло краткий срок и исчезло, а проклюнулось неизвестно из каких семян, как и не оставило семечка...
О, конечно, говорят о начальном усвоении Данилевского и тут же - о выламывании из славянофильства. Но и Данилевский, и славянофильство в целом предстают как объекты "пробного", хотя не случайного, касания леонтьевской мысли, а в итоге она по отношению к ним оказывается все-таки "чужестранной", и глубокое слово "сродство" практически отменяется тут. Что-то мешает признать однокровную связь и зависимость... Кажется даже, будто сама теория смены культурных типов - истинно великое, по мнению Леонтьева, открытие Данилевского - было бы заявлено Леонтьевым и самим, разом с дальнейшим, неславянофильским уже полетом собственно леонтьевской мысли...
"Неузнанный феномен" - назвал Леонтьева Розанов, наиболее тонкий и страстный почитатель его, убежденный, однако, в роковой - "до скончания веков" - безвестности великого мыслителя. Но "неузнанность" предполагает возможность узнать, неосуществившуюся возможность. Что ж, кого можно было узнать в "неузнанном"?
Оказывается - некоего пришлеца, иноземца, коль не инопланетянина, странной прихотью таинственных сил рожденного в русской земле.
Любопытно, что Розанов отнюдь не подчеркивает русскости Константина Леонтьева, его русской культурности... Леонтьев для Розанова - это как бы уникальный, конечно, духовный гражданин мира. Если "монах", то не оптинский, а греческий, афонский, наконец, даже и "турецкий игумен". Если политик, то Кромвель, причем "точный (!), в полном росте Кромвель", разве что "без меча" и "в лачуге за городом". Если верховный жрец культа, то Торквемада или же анонимный Великий Инквизитор из латинской Севильи. Если эстетический герой, то Алкивиад, причем "в точности как бы вернувшийся с азиатских берегов Алкивиад". Если мыслитель, то Ницше и даже "plus Nietzsche que Nietzsche mеme". Если стихия, то Мальштрем... И т.д., и т.д. (Поражаешься этим "точный", "в точности" - словно речь о клонировании, о непрошенном дубликате, для забавы подаренном слишком щедрой природой.)
Так что сам непосредственный, что-то чующий дух противоречия побуждает воскликнуть:
Нет, он не Байрон, он другой,
Еще неведомый избранник...
"Человек пустыни", - еще говорит о Леонтьеве Розанов, даже когда поминает "мать-кормилицу, широкую степь", вроде пахнущую Россией...
"Человек пустыни" опять от России уводит - возвращает нас к "Сулейману в куколе" или к арабскому Востоку.
Не один Розанов, а, кажется, все, кто писал о Леонтьеве, неутомимо листали "всемирную энциклопедию", пропуская в ней, впрочем, русские, страницы, и поселяли Леонтьева, его душу, пафос и вкусы в разные места и времена Западной Европы и Ближнего Востока.
И во всем этом были, конечно, свои основания. К тому же, по видимости, лестные для объекта: мир великих, мир дерзких, мир легендарных гигантов распахивался тут, чтобы принять Константина Леонтьева в свой пантеон...
Однако не отступает сомненье; не кажется твердо разрешенным вопрос: кто ж он - и впрямь европеец, опоздавший к крестовым походам, а тем паче к Пуническим войнам, но зато - предвосхитивший Ницше ("преждевременный Ницше"), европеец даже при пресловутом своем "византизме" ("А византизм есть, конечно, лишь более раннее лицо Европы же", как напоминает Сергий Булгаков), или тот, о ком, о каких сказано у Блока:
Нам внятно все - и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...
Мы помним все - парижских улиц ад
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат
И Кельна дымные громады...
Для вас - века, для нас - единый час...
Мнения, наверное, разойдутся, и, возможно, большинство будет в основном ощущать в Леонтьеве дыхание Европы, смешанное с раскаленным ветром аравийских песков, где проносится тень Саладина, а также золотые и мрачные краски Византии, сладострастную пестроту турецкого Константинополя...
Тут стоит заметить, что если Достоевскому легко прощалось оплакивание "священных камней Европы", которое воспринималось словно бы просто вмещенным в православную молитву "за всех и вое", и даже болезненно-экстатические, как в Пушкинской речи, клятвы в любви к Европе, то Леонтьев, при всем его безграничном презрении к Европе современной, казался все же скорей "Летучим Голландцем на русских полях" (как впоследствии назван был Блок). "...Вопреки всей своей ненависти к Европе и даже именно в этой ненависти, он европеец", - психологизировал насчет Леонтьева Сергий Булгаков. Между тем как Достоевский при всей его декларированной любви к Европе - и даже именно в этой любви - казался сугубо русским... Парадоксальность этих восприятий заслуживает внимания. Но сейчас подчеркнем еще раз: "неузнанный феномен" (о Константине Леонтьеве) - это звучало ("неузнанный") как "нездешний".
Между тем сам Леонтьев придавал огромное, ничем не восполнимое значение признаку национального во всех видах творчества. Собственно, "национальное" было для него синонимом "творческого", то есть "своеобразного", а тем самым - "культурного". Признак национального был, по его мысли, залогом "мирового" (значения, влияния, "охвата"). "Истинно мировое, - формулировал он, - есть прежде всего свое собственное, для себя созданное, для себя утвержденное, для себя ревниво хранимое и развиваемое, а когда чаша народного творчества или хранения переполнится тем именно особым напитком, которого нет у других народов... тогда кто удержит этот напиток в краях национального сосуда? - Он польется сам через эти края... и все чужие люди будут утолять им жажду свою".
Таким образом, леонтьевские критики - будь то апологетический Розанов или скептический С.Н. Булгаков (а с ними и сонм других) - с точки зрения самого Леонтьева, если вспомнить его шкалу ценностей, в сущности, отказывали Константину Леонтьеву в творчестве, в творческом характере его мышления, впрочем, не замечая курьеза.
А Леонтьев-то очень настойчив в своем упоре на критерий национального как критерий самого творческого дара. От русской литературы он ждал, что она "даст, наконец, миру... своеобразное, русское содержание в прекрасной форме". В этом смысле любопытны его претензии даже к Пушкину. "Содержание Пушкина - Вы сами знаете - не так своеобразно, как содержание у западных гениев", - писал он Николаю Страхову. А в другой раз рассуждал о необходимости "более оригинальной, творчески русской фантазии, чем фантазия Жуковского (германская) и Пушкина (как бы общечеловеческая в самом лучшем смысле, но не особенно оригинальная)".
То есть "общечеловеческое", даже в лучших своих выражениях, по Леонтьеву, заведомо лишено высокой или подлинной оригинальности, являясь определенным упрощением. И можно добавить, помня другие леонтьевские высказывания, "общечеловеческое" не есть мировое в культурном значении. Мировым в этом смысле может стать только "творчески-русское" - если речь о творении в России и, в частности, о творении на русском языке.
Разумеется, леонтьевская оценка Пушкина - спорна. А если она верна, то, как покажет дальнейшее, может вернуться бумерангом к самому Константину Леонтьеву. Но во всяком случае ясно, что критерий "творчески- русского", который прилагает он к творческим свершениям, чая высокой степени "творчески-русского", должен быть применен и к самому Леонтьеву. К области его философской, историко-политической мысли в частности. Жаждая от славян "славяномыслия, славянотворчества", он, несомненно, предъявлял подобные требования и к себе.
С этим вопросом - "творчески-русского" в наследии Константина Леонтьева - тесно связан вопрос о встраивании леонтьевского наследия в широкое течение русской культуры. И в ее русло-старицу, и в ее русло новейшего, послепетровского, времени.
То есть феномен, стоящий особняком, должен бы, не утратив своей неповторимости, перекликаться с другими отечественными феноменами на некоем генетически-творческом уровне, в духе, если не в самом круге тем, преимущественных интересов своего мышления. (Иначе пришлось бы принять розановское подозрение: "феномен, а не сила".) Найти эти переклички - задача необходимая и естественная. Вопреки устоявшимся мнениям об "инопородности", сугубой исключительности, чуть не призрачности этого слишком уж "некондиционного", "фантастического" гения. Вопреки привычке думать, пусть и восхищаясь:
Он фармазон. Он пьет одно
Стаканом красное вино!
Между тем "вино" - местное: из "туземной", "творчески-русской" лозы, пусть на ней и вызрели ягоды вроде бы неведомого вкуса...
"Мое русское сердце..." - любил повторять Леонтьев.
Но, стало быть, такой и ум. Которому свойственны безоглядность, бесстрашие, склонность к "беззаконию", "неправильности", даже и "варварская" насмешка над системами, взгляд на системы как на признак некоей деградации творческой мысли, ее, так сказать, строгое, но - упрощение... "Хорошие философские системы, именно хорошие, - это начало конца", - заявляет Леонтьев в последний год своей жизни, видимо, чуя в законченной философской системе некое смиренье ума. Смиренье его и перед самим собою, и перед объективной возможностью мирочувствования, миропознания... Кажется, именно "рыцарское служение мысли" ("Вся моя жизнь от 21 года и до сих пор была посвящена самому искреннему, самому рыцарскому служению мысли и искусству", - говорит Леонтьев в "Моей литературной судьбе) отвлекало Константина Леонтьева от претензий на философскую систему, не допускало его до заявки на "окончательное слово" познания, окончательную истину относительно прихотливого мира жизни.
Кстати, в этом служении мысли мирочувствование играло не меньшую, а пожалуй, и большую роль, чем плоды собственно интеллекта. Оттого-то не отделяет Леонтьев служения мысли от служения искусству - так, словно бы это сходные, взаимосвязанные служения. Характерно признанье его: "...я по складу ума более живописец, чем диалектик, более художник, чем философ, я не доверяю вообще слишком большой последовательности мысли". Последовательность, логическая увязанность мыслей (соображений о мире) кажется Константину Леонтьеву лишь частным видом, частными случаями проявления истины. Ибо исходно противоречив сам характер ее. В эпатирующем, шокирующем педанта признании Константина Леонтьева заключено обоснование парадоксальности его мышления, словно бы подтверждающее формулу Пушкина: "гений, парадоксов друг".
Но вот тонкость: множество парадоксов Константина Леонтьева, широко известных, выставляемых как экзотические экспонаты загадочного или капризного мышления, нами, русскими, вряд ли были бы признаны парадоксами (в эффектном впечатлении от этих "острот"), если бы нам не сказали, что это - именно парадоксы, то есть нечто, что требует не столько понимания, сколько запоминания, усвоения "в капсуле" или "в облатке".
Ведь подобные парадоксы легко обнаружить и в фольклоре, в лапидарных формах изустной народной мудрости. Например: "На всякого мудреца довольно простоты". Но разве осознаем мы это речение принадлежащим особому жанру - парадокса? Особому интеллектуальному жанру?.. Парадоксальность его в нашем восприятии незаметна. Она не требует оговорок-указаний на себя. Не нуждается в особой квалификации. Кажется: изречена просто истина.
Вот и леонтьевские парадоксы суть как раз непосредственное, "шальное" и притом совершенно органичное проявление русской "логики", русского ума, обусловленного эмоциональностью, особой художественностью склада нашего славянского племени. Наконец, тем здравым смыслом, который не озабочивается внешней порою нелепицей, неправдоподобностью своих выводов.
То есть речь об уме не столько собственно аналитическом, разлагающем явления, сколько как бы "перепрыгивающем" к синтезу уме, основанном на прозрении, так сказать - "незаслуженном" озарении. И тогда, произнося какую-нибудь "несусветность", Иванушка-дурачок просто, даже, быть может, смущенно за свое "необоснованное" знание, говорит: "Это - так". Или - как однажды Леонтьев: "Почему это так, не берусь еще сообразить..." Нo открытие - сделано!
Тут уместно, пожалуй, ясно отделить леонтьевский, русский, парадокс от западно-интеллектуального, прямо похожего на литературный жанр. Расцветший особенно в эпоху Просвещения, а впрочем, и в литературе конца XIX века в отцветающей западной культуре - например, у Оскара Уайльда или - прежде того - у сознательно-эпатажного (все-таки!) Ницше, вербовщика повергнутых в беспощадный шок душ...
Здесь же, у Леонтьева, не любовь к "искусству парадокса", не демонстрация "загадочной" мудрости, не интеллектуальное щегольство, не увлеченье "игрой ума" с ее более или менее конвейерными - при всей их неожиданности - плодами, а действительная незаданность (с виду даже "оплошность") сути и формы оценок, реакций и выводов, уважительная и лично непритязательная чуткость к "подвижным картинам" (Пушкин), даже - взаимопереливающимся картинам, жизни.
"Леонтьев любил истину в ризах парадокса", - писал проф. Б.В. Никольский, вообще-то автор проницательный.
Но, пожалуй, точнее было бы сказать просто: "любил истину". Или же: знал, что истина может предстать именно в этих ризах, и безбоязненно, увлеченно, не смущаясь "внезапными" ризами, шел навстречу ей.
А вот дальше у Никольского всякое слово точно: "Истина беспредельно серьезна, - говорит он, - но она не гнушается (!) этими ризами, и даже в облачении ими всего нагляднее проявляется ее внутренняя жизнерадостность".
Это очень по-леонтьевски: внутренняя жизнерадостность истины! Как и очень точен глагол: "не гнушается" (то есть вовсе не то, чтобы непременно "любит"! ). Не гнушается показываться нам так: может быть, ради того, чтобы, вызвав удивление, привлечь наше любопытство, приковать внимание. Намекнуть на веселость свою, вон ту самую "внутреннюю жизнерадостность"!..
Чутко следя динамику самой жизни, готовый к естественным ее неожиданностям, не тщась уложить ее в прокрустово ложе собственных своих построений - причинно-следственных связей, прямых детерминированностей, - а, напротив, способный пожертвовать ими, любою блестящей формальной логикой ради постиженья живой и нерукотворной сути вещей, Леонтьев нечаянно, как бы и бессознательно оказывается зачастую "парадоксалистом". Словно бы и не зная, что удовлетворяет этим условию "гения"... Условию, с леонтьевской точки зрения, впрочем, "нерусскому" (хотя и высказано оно в строке Пушкина). Ибо "по-нашему", нам свойственнее бы молвить, что гений - "друг" не "парадоксов", то есть неожиданностей, "несообразностей" как таковых, формальных противоречий с их непременно поражающим эффектом, а... "друг" прозрения, "откровения". Божественного, в
конце концов, откровения, которого сподобливается он, и передает его нам, так сказать, "телеграфным", лапидарным, как бы даже и "вздыбленным" (для обычного уха) стилем. Чуть ли не "ребусным", по раздраженному мнению иных...
Вот ведь что пишет Леонтьев Фуделю в 1890 году: "Мне очень грустно еще иногда, когда я вспоминаю, что даже и Вы с Вашей независимостью почему-то нашли нужным назвать "парадоксами" мои мнения в той статье Вашей, которую в гранках посылал мне прошлого года... Грингмут. Что такое парадокс? Это значит мысль странная, новая, удивительная, и больше ничего... Всякая великая мысль сначала кажется толпе парадоксом".
(Как видим, Леонтьева "не смягчало" и то, что величайшим парадоксалистом подчас называли... Христа. Русского мыслителя не устраивали псевдонимы истины - и такой кокетливый ее псевдоним, как "парадокс", который равно мог и приковать к себе внимание, и, напротив, побудить просто пожать плечами по поводу "экзотического" суждения, будь оно даже Божественным откровением типа: "Блаженны плачущие...", "Блаженны изгнанные за правду..." и т.п.)
Почему должно остановиться на этом? Потому что и сегодня находятся "леонтьевоведы", которые видят в Константине Леонтьеве вот это: "и больше ничего...". Так, в статье, предваряющей "Избранные письма" Леонтьева, изданные в 1993 году, читаем: "Каждый мыслитель инстинктивно мечтает найти верную мысль, а находит чаще всего - своеобразную. Если же изначально рассчитывает лишь на эффект оригинальности, то становится парадоксалистом, роняет высокий сан мыслителя. Леонтьев не хотел "в парадоксалисты", слишком верил в истинность того, что утверждал, но оригинальность прирастала к его идеям, а их отношения с истиной были по крайней мере прохладными и запутанными. Это и есть судьба идей Леонтьева - становиться и оставаться прежде всего оригинальными, приносить не столько "головокружение" от истины, сколько глоток новизны". Мало того: "...оригинальные суждения и идеи смыкались (у Леонтьева. - Т.Г.) с как бы декоративными. И что ж, это было закономерно - навеянные эстетикой, они несли в себе всю "бесполезность красоты".
Кажется, тут выражена не "судьба идей Леонтьева", но - нередкая - судьба истины, одетой "в ризы парадокса" и недоступной тем, кто не знает о ее "внутренней жизнерадостности". И тут, конечно, типичное по сей день непонимание эстетики в леонтьевском смысле этой категории. Того, что Леонтьев называл "эстетикой в жизни и эстетикой в искусстве". Подмена эстетики жизни эстетизмом определенных школ в искусстве!
Но вернемся к главному, к высказанному выше утверждению, что парадоксальность Леонтьева - это отнюдь не продукт оригинальничающего или эпатирующего "новизною" ума, а плод ясновидения и врожденного уважения к тайне вещей, таинству жизнепроявлений. И заметим: разве не такова же и парадоксальность самого Пушкина? Правда, часто менее заметная, поскольку живет в оболочке художественных образов, в ритме плавного течения стиха... То есть особо гармонизирована в самой творчески заданной форме своего выражения, "изъяснения".
Но порой и у Пушкина она ослепляет - не хуже "непереваримых" (или "декоративных") речений Константина Леонтьева:
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
"Ужасное", искаженное яростью, оказывается характеристикой, чертой "прекрасного"!..
А вот один из ослепительных парадоксов, преподносимых леонтьевской мыслью. Национально-освободительные движения XIX века, настаивает Леонтьев, неизбежно приносят космополитические плоды ("Движение современного политического национализма есть не что иное, как видоизмененное только в приемах распространение космополитической демократизации", - читаем, например, в статье "Национальная политика как орудие всемирной революции".)
Здесь "построение", обратное пушкинскому: "прекрасное" (национально-освободительные стремления) оказывается залогом "ужасного" (космополитического всесмешения)... И эта "несообразность" до сих пор еще многих повергает в остолбенение.
(Своего рода парадокс и в приведенном выше рассуждении Константина Леонтьева об "истинно мировом" - о его глубокой соотнесенности с сугубо "узким", национальным.)
Хочется вспомнить еще одну строчку Пушкина:
Он весь, как Божия гроза, -
и распространить ее шире, чем на картину праведной битвы русских со шведами.
"Божия гроза" - это, кажется, также и "эффект", ощущение от самой "внутренне жизнерадостной" истины, от ее "риз", ослепляющих нас в трагических леонтьевских парадоксах, подобных грозовой молнии, при всей "веселости" или жизнерадостности и самой истины, и факта явления ее в мир. Явления, освежающего (и пугающего), как гроза, ошеломляющего, как Божие откровение, которое повергает и в восторг, и в трепет...
Разговор о парадоксах - это, конечно, разговор о противоречиях. Кто только ни отмечал "чудовищных противоположностей", из которых сотканы наследие Леонтьева и сама его личность! Они вызывали даже и гнев, недоуменный гнев, особенно когда люди, не умея охватить полноту леонтьевского духа, вычленяли, вырывали для рассмотрения какую-то одну из противоречивых черт, носясь с одинокой этой "противоположностью", точно с альфой и омегой непонятного для них мыслителя-человека. Так вырывалось, например, в "несовместной" паре "монах-эстет" последнее слово.
Но разве не сплошную цепь противоречий, противоположных утверждений являет нам наследие Пушкина? Откуда можно почерпнуть самые, казалось бы, взаимоисключающие признания...
Но здесь пушкинисты нашли оправдательное объяснение: мол, приятие, широкое благоволение к жизни, благородно-художническая, мудрая непредвзятость... Хотя встречались, конечно, моралисты, которые ставили "в строку" Пушкину те или другие "некондиционные" для той или иной эпохи, "неудобные" умонастроения. Как встречались и те, кто пытался спрямить, стесать колющие грани, придать одномерность прихотливо-свободному и разнообразному в своих заключениях пушкинскому мышлению. Причем эти спрямления, грубые упрощения служили обычно "к пользе" для пушкинской славы (как понимали эту пользу "реабилитаторы" гения).
Не то с Леонтьевым! К нему отнюдь не спешили - к его якобы "психопатическим пapaдoкcaм", к его кричащим противоречиям - применить пушкинианское объяснение. (Повторю, что гармоничность самой поэтически-стихотворной формы во многом помогла Пушкину-мыслителю быть понятым в высшем, жизнеприемлющем, а не в эпатирующе-бунтарском, "безбожном" роде.)
Вот почему хочется процитировать даже не такого ценителя Константина Леонтьева, как Розанов, все-то норовивший, однако, нет-нет да и сорвать с него клобук "монаха" и вскрикнуть не без язвительной радости: "Эстет! Эстет!", - а профессора Никольского по поводу разногласий в душе и мыслях Леонтьева:
"Он (Леонтьев. - Т.Г.) не только понимал противоречия, но любил их... (Не парадоксальность формы, "костюма" истины, а саму сложную ее суть! - заметим от себя. - Т.Г.) И так прекрасно сосуществование этих разногласий, столько великодушия слышится в каждом из них, что как-то жаль признавать их противоречивость: сердцу хочется провозгласить, как провозгласил бы, я думаю, сам Леонтьев, что в них нет разногласия (!), что в них полное единство, что лжет логика и лжет очевидность".
Как оспорить, что едва ли не каждое слово в этом гимне гармоническому сознанию Константина Леонтьева приложимо также и к Пушкину?! Да и к нашему восприятию пушкинских произведений: "столько великодушия слышится" под пером Пушкина в сосуществующих разногласиях, явленных поэтом и в героях его, и в авторском лиризме, что мы часто не замечаем их - той объективной (а точнее, формальной) фактической розни, которая обнажается лишь перед глазом исследователя, - а ощущаем просто полноту жизни, счастливое единство разнообразной жизни, представленной в поэзии.
"Высшее единство в высшем разнообразии" - вспоминается тут сформулированный Леонтьевым идеал, или условие гармонического целого...
В сущности, наблюдение проф. Никольского по поводу Леонтьева справедливо для любого истинно творческого, созидательного сознания. "Демиургического" сознания, ведающего, что очень нередко "лжет логика и лжет очевидность".
Современный исследователь Петр Палиевский адресует именно Пушкину наблюдения, близкие к высказанному Борисом Никольским о Константине Леонтьеве. По его утверждению, Пушкин "разработал метод-стиль объединения противоположностей: не с помощью их логического решения, а можно было бы сказать, утверждения их соотносительного места в растущем целом". Причем это не означает простого компромисса противоположностей или желания избрать "среднее" между ними. "Незаметно обузданное противоречие", - еще говорит исследователь, напоминая невольно как раз леонтьевские сужденья о "гармоническом (т.е. полном контрастов) единении", при котором кажется, "что в них (контрастах. - Т.Г.) нет разногласия"... "...Совмещенные несовместимости не видны, - пишет о Пушкине Палиевский, - из-за правдивости, которая добыта ими и осознана в целом".
"...Образ или отражение сложного и поэтического процесса жизни, в которой есть место всему: и антагонизму, и солидарности", - говорит о гармонии вообще (и в искусстве, и в жизни) Леонтьев, настаивая на "сопряжении вражды с любовью, "некоем как бы гармоническом, ввиду высших целей, сопряжении" отнюдь не растворяющихся друг в друге противоположностей. Некомпромиссный принцип леонтьевского единства, протест против "усредненности" его участников подчеркнут мыслителем неоднократно. "Надо, чтобы составные начала цельного... явления были изящны и могучи..." - считает он. "...Дело в электризующем соприкосновении разнообразных... элементов..." - поясняет он, говоря о напряженном взаимодействии составных частей в пределах идущего к единству явления и даже о "по временам и жестокой борьбе" между ними, "чреватой творчеством" борьбе "оригинальных" и "сильных" элементов...
Собственно, этот же принцип "растущего целого" отмечает Палиевский у Пушкина, хотя выбирает более "мягкие" слова, более "плавную" графику для изложения пушкинского "метода-стиля", в котором единство или гармония целого понимается, однако, в сущности, "по-леонтьевски" как сложный, не "унисонный" процесс: "...Пушкин везде избирает "крайнее" (т.е. "оригинальное" именно и "сильное". - Т.Г.), но всегда на оси, проводящей это крайнее через невидимый центр в противоположную, кажется, еще более дикую крайность, однако... расширяя целое до способности все дальше их обнять".
Пожалуй, помянутый здесь "невидимый центр", как бы "пропускающий через себя" дикие крайности, а тем самым - общий для них при всей исходной их "разнонаправленности", по-леонтьевски можно было бы назвать "внутренней идеей" явления, роль которой в задаче единства этого явления многократно, подробно рассмотрена Леонтьевым в его "триаде развития", "гипотезе развития". Разный язык, разные пластические образы у Константина Леонтьева и современного пушкиниста не способны заслонить то общее, что существует между леонтьевскими представлениями о "гармоническом единстве", "поэтическом (как еще говорит он. - Т.Г.) процессе" гармонического становления и заключениями на этот счет сегодняшнего пушкиноведения.
Многие открытия Леонтьева, в том числе и наиболее "парадоксальные", словно бы базируются на пушкинском творческом опыте, легко подтверждаются философским содержанием пушкинских произведений. Хотя Леонтьев, этот нечаянный пушкинист, отнюдь не ссылался на Пушкина как на свой первоисточник, редко поминал великого русского поэта и даже придирчиво порою оценивал его. Так, родственная пушкинской леонтьевская философия гармонии обнаруживается в том главном, что оставил нам Константин Леонтьев, - в его "гипотезе развития", в теории "цветущей сложности". (Подробно об этом, о "цветущей сложности" как о пушкинской по типу формуле гармонии см. в моей статье "Высшее единство в высшем разнообразии" в кн.: "Московский пушкинист" - М.: Наследие, 1998.) Впрочем, и вся леонтьевская "триада развития" может быть проиллюстрирована пушкинскими произведениями, их образно-смысловым содержанием. Различие средств у художника в чистом виде, как Пушкин, и у мыслителя (Леонтьев), не прибегающего к образно-пластическому воплощению своих идей, не мешает разглядеть их духовную общность, установить и определенные терминологические параллели (как, например, леонтьевская "цветущая сложность" и пушкинский "союз", "по-леонтьевски" раскрываемый и в стихотворении "19 октября", и в "Моцарте и Сальери", и в других произведениях Пушкина). К важным среди сходно понимаемых Пушкиным и Леонтьевым категориям относится и категория "пользы" - именно "презренной пользы", ведущей к дисгармонии мира и угрозе ему... Собственно, весь пресловутый эстетизм Леонтьева, толкуемый обычно в имморалистском и хуже того плане, имеет свои параллели или "прообразы" в творчестве Пушкина, где забота о прекрасном неотделима от задачи жизнеохранения. Пафос жизнеохранения - воистину главная и общая у Пушкина и Леонтьева тенденция, хотя суровость, несентиментальность последнего, "реалиста", как он сам себя называл, открытыми глазами смотрящего на жестокость процесса жизни, развития, роста, как будто бы "уводит в сторону" от пушкинского взгляда...
Речь идет о встраивании Леонтьева в русскую культуру, причем в основное, "стержневое" ее русло. И, утверждая, что Леонтьеву были присущи именно пушкинский по типу склад ума, пушкинская смелая объективность, сугубая непредвзятость мысли, стоит припомнить, в частности, что ни к кому чаще, чем к Пушкину и Леонтьеву, ни к кому так постоянно, как к ним, не применялись и современниками, и потомками слова "свобода", "тайная свобода", определение "свободный". Пусть в отличие от Пушкина сам Леонтьев охотно твердит не об идеале "свободы", а, напротив, о "деспотизме" и даже об "узде спасительного насилия"... При ближайшем рассмотрении видна непротиворечивость друг другу "несовместных" этих "девизов", возможность гармонического их сосуществования, так сказать, взаимообусловленность и взаимонеобходимость.