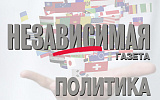Холмы, поросшие неведомыми травами, горы с татарскими именами.
Холмы, поросшие неведомыми травами, горы с татарскими именами.
Прочитала в «НГ-Exlibris» за 4 октября репортаж о десятом «Волошинском сентябре» в Коктебеле. Масштаб фестиваля поражает. Замечательно, что много молодых участников. Угнетает состояние Коктебеля, море, отравленное канализационными отходами... И мне захотелось поделиться воспоминаниями о другом Коктебеле 51 год тому назад, о встречах с Марией Степановной Волошиной, о дружбе с замечательным Виктором Андрониковичем Мануйловым – одним из основателей музея в доме поэта.
* * *
…Татьяна Александровна Мартынова – геофизик, дочь старого большевика, редактора «Искры». Несмотря на то что ей было под пятьдесят, ее почему-то все называли Таней. Оттого, наверное, что она была общительна, подвижна и удивительно легка на подъем. Я познакомилась с ней в Москве, но подружилась в Коктебеле, куда впервые попала летом 61-го года. Однажды на тропинке, ведущей к морю, я неожиданно увидела Таню. С этой минуты моя коктебельская жизнь переменилась. «Завтра мы пойдем в горы», – заявила она, не спрашивая моего согласия. «Я постучу тебе в окно в шесть утра». И она постучала. Через пять минут мы уже были на рынке и завтракали только что купленными молоком и творогом, а еще через несколько минут поднимались по тропинке в горы.
Боже, что мне открылось! Дивный вид на море и поселок. Холмы, поросшие неведомыми мне травами. Таня, указывая на вершины, называла их странно звучащими татарскими именами. «Видишь те скалы над морем? Они похожи на волошинский профиль», – сказала она. Еще до приезда Тани я много раз слышала имя Волошина, проходила в двух шагах от его дома, видела открытую веранду, откуда доносились голоса и смех. Но жизнь моя текла мимо: пляж, дом, пляж, столовая. И вдруг: «После обеда пойдем к Марии Степановне – вдове Волошина». Волошин – имя из моего детства. Когда-то давным-давно я держала в руках его сборник в линялом матерчатом переплете и читала золоченую надпись: «Максимилиан Волошин. Иверни. 1918 год». Запомнив имя, я не знала ни строки, ни судьбы поэта.
И вот я поднимаюсь по скрипучим ступенькам на второй этаж. Мария Степановна, маленькая, коренастая, седая, коротко стриженная, радушно встречает Таню, которую знает давно. Она, не приглашая нас в комнату, усаживает тут же на веранде, садится рядом, подвернув под себя ногу, и принимается расспрашивать Таню о Москве. Я разглядываю древесные корни, висящие на стенах дома. Они похожи на фигурки бегущих животных и танцующих людей. Заметив мой взгляд, Мария Степановна сняла один корень и протянула его мне. «Габриак», – услышала я странное слово. Так коктебельцы назвали эти фигурки. Я гладила корень, а Мария Степановна рассказывала историю придуманной Волошиным загадочной поэтессы Черубины де Габриак. Мимо дома тек пестрый, летний, людской поток, слышалась музыка, доносился запах съестного. Мария Степановна с горечью говорила об исчезающем Коктебеле, о том, что его безбожно уродуют и терзают. Все иное: море, берег, звуки, запахи.
Но в следующие свои приезды я вспоминала Коктебель 61-го как девственную и безнадежно утраченную планету с еще не исчезнувшими окончательно разноцветными камушками на берегу, с диким кизилом и вечерними цикадами в горах, с морскими бухтами, куда добирались на лодках или пешком, с табачной плантацией на пути к Мертвой бухте.
Какую жизнь вели мы с Таней тем летом! Бегали в горы, купались голышом в далеких безлюдных бухтах, плавали на лодке к Золотым воротам. А главное – приходили в дом поэта слушать рассказы Марии Степановны о Максиньке и беседовать с древними старушками, которые говорили о давно ушедшем как о вчерашнем дне. Но, увы, слушая во все уши и глядя во все глаза, я мало что понимала, так как понятия не имела о том времени, о котором шла речь. И все-таки, обладая еще почти детской памятью и вниманием к деталям, я многое запомнила на всю жизнь: волошинские неяркие акварели, конторку, стоящую возле двери, тусклое зеркало над конторкой, огромную перламутровую раковину с Индийского океана, привезенную Волошиным из дальних странствий, бесконечные книжные полки, вид из окна на море и профиль поэта. А главное, висящую на стене мастерской маску египетской царицы Таиах – ее загадочную полуулыбку. В один из своих приездов в Коктебель на диванчике под маской ночевала Таня, о чем часто с гордостью рассказывала. Где она только не ночевала в своем легком и теплом пуховом мешке, который всюду возила с собой: и в лесу, и в горах, и у моря, и в доме поэта, возле бессмертной Таиах.
Однажды мне было разрешено принять участие в уборке дома. Вытирая пыль с книг, я то и дело слышала восхищенные восклицания и бормотания Тани, натолкнувшейся на очередную редкую книгу. Она тут же опускалась на табурет и принималась читать. Мне тоже хотелось восхищаться и трепетать, но я не знала, чем и от чего. Тем не менее я тоже садилась на деревянные ступеньки, ведущие на галерею и в верхнюю комнату дома, и листала пожелтевшие страницы. Уборка продвигалась медленно, и за эти долгие часы в меня, кажется, на всю жизнь въелся запах старых книг.
На следующий день в награду за труды Мария Степановна вынесла целую кипу волошинских статей и стихов и разрешила читать. И вот жарким летним днем я сидела в прохладной полукруглой комнате за столом и переписывала все подряд под насмешливым взглядом египетской царицы. Она-то знала, что я слепой щенок, который тычется во все эти мудрые строки, ничего в них не смысля.
Еще целых двенадцать лет оставалось до того дня, когда старый ленинградский профессор Виктор Андроникович Мануйлов – завсегдатай Коктебеля, лермонтовед и знаток Волошина – пригласит меня почитать стихи в доме поэта, и строгая нелицеприятная Мария Степановна, дослушав чтение до конца, скажет: «Спасибо. Мне стало интересней жить».
Виктор Андроникович – любимец студентов и аспирантов, всегда окруженный людьми, всем необходимый, вечно занятый, с постоянной горкой писем на столе. Он неизменно излучал приветливость и радушие и по старой университетской привычке всех, даже юных, уважительно называл по имени-отчеству. Я впервые увидела Мануйлова, когда он водил по дому гостей и что-то им тихо рассказывал, боязливо поглядывая на дверь. Позже я узнала, что он, поддавшись на уговоры, пустил в дом посетителей, нарушив запрет уставшей от летних гостей Марии Степановны. И, зная ее крутой нрав, просил их ходить на цыпочках и говорить шепотом. Когда же она все-таки появилась в дверях, он начал оправдываться, смущенно и виновато улыбаясь.
У него была замечательная внешность: младенчески розовое лицо, смеющиеся глаза, оттопыренные уши и вечная тюбетейка на лысом черепе.
 Поэт и философ Максимилиан Волошин в видении современного скульптора. Фото Елены Семеновой |
Когда я попала в его поле зрения, он воскликнул: «Да вы же фаюмочка, вас непременно надо писать». И повел меня к московскому художнику Валерию Всеволодовичу Каптереву, тоже завсегдатаю и патриоту Коктебеля. Каптерев жил возле рынка в маленьком белом типично коктебельском доме. Стены его комнаты были завешены простынями. «Я закрыл ими пестрые хозяйские коврики, чтоб не отвлекали», – объяснил он. Валерий Всеволодович усадил меня посередине комнаты на табурет и, вцепившись в мое лицо хищным, прищуренным глазом, принялся писать. Я же тем временем разглядывала его картины. Картон небольшого формата населяли мидии, странные рыбки, петухи небывалой расцветки, цветы – все знакомое и незнакомое, здешнее и нездешнее. Каптерев писал быстро. Он сказал, что это его первый портрет после двенадцатилетнего перерыва. Взглянув на портрет, я обомлела: передо мной была восточная красавица с нежной смуглой кожей лица, миндалевидными глазами и ломаной линией бровей. Она смотрела в пространство капризно и отчужденно, как бы говоря: «Надеюсь, ты понимаешь, что не имеешь ко мне ни малейшего отношения?» «Но ведь на тебе мой розовый халат в белый горошек и у тебя коса, как у меня?» – с робкой надеждой задала я свой немой вопрос. Но та, на портрете, отказывалась продолжать беседу. Она уже жила своей недоступной мне жизнью. Позже в Москве Валерий Всеволодович рассказывал, что многие молодые люди, увидев портрет, просят у него телефон юной красавицы. Я заклинала его не давать никому моего телефона, с тоской предвидя реакцию бедных поклонников.
Виктор Андроникович, обрадованный удачей с портретом, собрался идти со мной к скульптору Григорьеву, чтоб тот меня лепил. Но я категорически воспротивилась. Мне «хватило» и портрета.
Таня Мартынова, Виктор Андроникович Мануйлов, а позже Арсений Александрович Тарковский – незабвенные мои проводники в затонувший град Китеж – не знаю, как назвать разрушенный, почти уничтоженный мир, который я потом всю жизнь пыталась восстанавливать по крохам, дорожа каждой строкой, каждым штрихом, каждым упоминанием.
Таня Мартынова открыла мне истинный Коктебель – Коктебель художников, поэтов, странников. Она познакомила меня с картинами Фалька, приведя в дом на берегу Москвы-реки, где жила его вдова. И хотя я мало разбиралась в живописи, но понимала, что дышу особым воздухом и соприкасаюсь с тем миром, который изгнан из обыденной, повседневной жизни.
Она возила меня в Мичуринец к Валентину Фердинандовичу Асмусу, своему доброму другу. И я на всю жизнь запомнила, как пожилой ученый-философ, слушая свою любимую пластинку, ходит взад-вперед по кабинету, улыбается и потирает от волнения руки. Таня показала мне комнату, в которой останавливались Гаррики – так друзья называли Генриха Густавовича Нейгауза и его жену, когда приезжали к Асмусам на дачу.
Благодаря Тане я имела случай наблюдать, как Нейгауз слушает на отчетном концерте своих учеников, то нетерпеливо отбивая костяшками пальцев такт, то напевая себе под нос, то выкрикивая с места что-то грозное и уничтожающее. Спасибо судьбе, что я застала этих людей. Они – почти последние звенья оборванной цепи. Лишь гораздо позже я смогла в полной мере оценить, с чем соприкоснулась, и пожалеть, что так мало смыслила.
Дружба с Мануйловым длилась много лет до самой его смерти в 87-м году. Для меня Мануйлов – это не только Коктебель, но и Ленинград, и Комарово. Году в 73-м мы всей семьей жили несколько дней у него в огромной ленинградской коммуналке, в которой ему принадлежала поделенная пополам комната непонятной формы (часть бывшей залы, наверное) с камином и лепными потолками. Странно выглядела на мраморном камине жестяная мыльница, с которой Виктор Андроникович ходил в ванную комнату умываться. Эта ванная комната была замечательна тем, что по стенам ее сверху донизу стояли полки со старыми газетами и журналами. Надо было быть Виктором Андрониковичем, чтоб многочисленные соседи не возражали против этого.
Живя у Мануйлова, я впервые прочла Ремизова, Юрия Анненкова. Я бы прочла и многое другое (книги лежали на рояле, на полу, на столах и полках), но мне было отпущено только пять дней. Трудно себе представить, что больше не существует мануйловской комнаты на 4-й Советской. Печальная вещь – демонтаж такого мира.
Низкий поклон Виктору Андрониковичу. Как удивительно он умел слушать стихи! Он откидывался на спинку дивана и буквально внимал с видом мечтательным и счастливым. Виктор Андроникович любил разделенную радость и потому всегда приглашал «на стихи» гостей. «Отлично, отлично, – взволнованно говорил Мануйлов, – баховская патетика». После таких слов хотелось творить чудеса. Жизнь казалась осмысленной, наполненной, беспредельной.
«Я счастливый человек, – говорил Виктор Андроникович. – Мне нечего терять: ни жены (он разошелся с ней незадолго до нашего знакомства), ни машины, ни дачи».
Однажды, уже совсем старым человеком, он застенчиво признался, что всю жизнь пишет стихи. И рассказал, что в давние годы его руку посмотрел один хиромант – Виктор Андроникович очень верил в эту науку и хорошо знал ее – и посоветовал не печатать и не показывать стихов в течение пятидесяти лет. Мануйлов последовал этому совету и выпустил свой единственный стихотворный сборник в 80 лет.
Коктебель без Мануйлова. Ленинград без Мануйлова. Комарово без Мануйлова. Скучно думать об этом.
Вижу его стоящим на зимней платформе Комарово в длинном черном старомодном пальто и галошах. Снег ложится на шапку и воротник. Виктор Андроникович улыбается и машет рукой. Электричка увозит меня в Ленинград. А вечером я уеду в Москву, куда будут время от времени приходить короткие, но вдохновенные письма из Ленинграда. Летом 61-го на пятачке перед домом творчества на второй день нашего знакомства Виктор Андроникович читал мою руку. «Вы будете писать. У вас огромная тяга к самовыражению». Сказал он и многое другое. Позже я удивлялась его прозорливости, но в ту пору спала младенческим сном…
* * *
Горячей галькой к морю выйду,
И прах земной, и жар, и гнет,
И боль, и праздность, и обиду
Смывают волны горьких вод.
* * *
И жизнь из суток не кроя,
Живу. Ступни ласкает тина.
И все сомкнулось воедино,
Как моря и небес края.
Коктебель, 1966
* * *
После бури ночной на суше
Груда щеп, черенок от груши,
В липких водорослях полено,
На песке бахромою пена,
Створки мидий, клешни кусок
Да русалочий волосок.
Коктебель, 1966