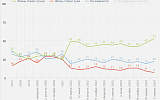Он ничуть не изменился. Он такой же, как и был в начале 90-х. Он продолжает бороться и писать, писать и не сдаваться. Все уже давно ушли в мейнстрим и в телевизор, а он пишет то, что до сих пор не все готовы печатать. Игорь Яркевич, вошедший в литературу грубыми и смешными рассказами, рассказами, которые можно (по заголовку одного из них) назвать «голосом из подполья», теперь, как и положено, пишет и романы. Последняя его книга – «В пожизненном заключении» – тоже роман. С сюжетом и диалогами, но такой же смешной и грубый, как и рассказы. И снова Яркевич бьется и борется. С этого мы и начали наш разговор.
– С кем вы боретесь, Игорь Геннадьевич?
– Прежде всего с самим собой. А еще с учителем литературы. Сельским или, может быть, даже московским. С Марь Иванной. Ну как Донцова или Маринина – они, конечно, не преподают, но читателям – именно что преподают.
– Почему вы, как про вас порой пишут, до сих пор не вышли из детского возраста. Мол, Сорокин вышел, а Яркевич не вышел.
– Претензии ко мне, я полагаю, в другом. Сорокин легализован. Он обуржуазился, в книгах Сорокина больше нет мата. Или почти нет мата. А в моей книге сохраняется та же энергетика, которая и сделала меня Игорем Яркевичем. То есть энергетика – радикальная, я не хочу, чтоб меня засасывал этот омерзительный буржуазный социум. Моя энергетика направлена на сваливание с корабля современности тех или иных норм и ценностей. Терять эту энергетику я совершенно не хочу – ни ради премий, ни ради тиражей. Ни ради форматов. Я самый средний и самый обычный парень, эта энергетика в меня вложена. Кем – я не знаю. Но я в любом случае уважительно отношусь к нему – кто бы он ни был, бог или дьявол – кто в меня эту энергетику вложил, и терять я ее не намерен.
– Может быть, вы коммунист, большевик?
– Нет, конечно. Я антикоммунист на все 100 процентов. У меня к современной ситуации – как к литературной, так и любой другой – только демократические претензии.
– Тогда почему вы постоянно ругаете все буржуазное, этот омерзительный буржуазный социум – ваши слова.
– Потому что в современном русском контексте буржуазность – это очередное насилие над демократией. Если это вообще можно назвать буржуазностью, потому что современный русский буржуа не имеет никаких представлений ни о каких буржуазных ценностях. Его, современного русского буржуа, интересуют только деньги. Все буржуазные ценности – свобода слова и прочие свободы – это пустой звук. Любой западный буржуа, поговорив с современным русским буржуа, застрелился бы. Дальше денег он не идет, и когда он все-таки пойдет дальше денег – этот вопрос предельно открыт.
– Почему вас так интересуют маньяки?
– Тут два ответа. Еще не было романа про маньяка в пожизненном заключении, не было романа про его, маньяка, культурологию, философию и антропологию. Настало время и для такого романа. У меня ведь уже был персонаж Моисей Иудович в «Как меня не изнасиловали», у меня был Чикатилыч и пр. Короче, я долго шел к этому и наконец пришел.
Второй ответ. У меня в мозгу заиграла какая-то дьявольская музыка, оставалось только записать – нотами или словами. Нотами я не умею.
И третье. Как выяснилось – очень удобно, уйдя за спину маньяка, свести счеты со всеми – от Аллы Пугачевой до Шона Коннери.
– Но это ведь не только, надеюсь, сведение счетов и дьявольская или, как говорил классик, нечеловеческая музыка?
– Я писал роман про ад и рай. Не случайно он поделен на две половины. Монологи и диалоги. Его, маньяка, монолог – это ад, а вот его диалоги, точнее, его сны – это то, как он представляет себе рай.
– Вы, получается, написали религиозную, христианскую, православную книгу?
– Я крещеный по православной традиции, но на православную традицию я не ориентировался. В книге выведен и священник, и выведен не очень хорошо.
– Почему вы теперь пишете романы, а не рассказы, как раньше? Известность вам принесли именно рассказы.
– Я написал всего три романа: «Как я и как меня», «Ум, секс, литература», «В пожизненном заключении». Это трилогия. Три романа, три глыбы, этакие Толстой, Чехов и Достоевский. Но я написал около 80 рассказов и продолжаю их писать. Рассказ я никому не отдам. Защищая рассказ, я чувствую себя русским патриотом, потому что если какой-то жанр и можно назвать русским литературным жанром, то только рассказ. Защищая рассказ, я готов даже стать не только патриотом, но и коммунистом – кем угодно. Но только защищая рассказ.
– Не было ли вам страшно писать – а потом перечитывать – про все эти маньячества?
– Писать было не страшно. Писал я на очень хорошем драйве. Страшно было, когда я стал его читать – я понял, что зашел далеко даже для самого себя. Страшно было и издателям. Печатать согласилось далеко не первое издательство из тех, с которыми я имел дело по поводу этого романа. Но у нас оказались разные страхи.
Если меня, как по жизни подлинного гуманиста, смущало количество отрезанных рук и ног, то их смущали фамилии современников – от Пугачевой до всех прочих. Издатели считали, что все сразу побегут в суд. По моим представлениям, в суд не пойдет никто. Времена судов над писателями уже прошли. Или еще не наступили.
Еще о страхе. Я слишком близко подошел к той тайне, которая, на мой взгляд, является последней тайной XXI века, – тайне оргазма. Эта тайна куда более мучительна, чем тайна клонирования, власти или денег. Все эти тайны мы более или менее понимаем и даже не очень хотим раскрывать. А вот тайна оргазма – последняя тайна. Я ее, конечно, не раскрыл. Но подошел в романе к ней настолько близко, что стало страшновато. Можете считать это шуткой, но, по-моему, мой роман полезен тем, кто по долгу службы ловит серийных убийц. Что-то полезное они для себя точно найдут.
– Откуда такое хорошее знание маньяков?
– Интуитивно. Это просто мое понимание природы зла. Русские писатели всегда лучше знали зло, чем добро. Сам-то я и мухи не обидел. А вот природу насилия понимаю и описать насилие могу. Такой уж, извините, у меня писательский дар. Другое дело, что это все решается не через пафос, а через иронию и самоиронию.
То, что я пишу, – не страшно, а смешно.
Я не могу победить зло пафосом, но я могу его победить иронией и самоиронией. Впрочем, не только я.
– Последнее время романы пишут чаще всего для того, чтобы получить Букеровскую премию или какую-нибудь другую. Может быть, и вы тоже? Рассказ вы защищаете, а писать – пишете роман.
– Ну вот мой персонаж – он мог так думать. Но он занят. Ему не до премий. Он говорит с Достоевским. Что до меня, то я даже в самом оптимистическом сне не могу представить, что мне дадут какую бы то ни было премию. И я романы пишу не так уж и часто. Я держал в уме нечто иное, я держал в уме то, что русская литература совсем забыла, а именно читателя. На премии мне плевать. В нынешнем их виде я не релевантен ни с одной премией. Кроме Набоковской, которую я получил, и получил, кстати, за рассказ.
– Читая книжку, я заметил, что фамилии некоторых персонажей изменены, хотя и легко узнаваемы, другие же оставлены как есть. Почему так?
– Так меня попросили. Изменить некоторые имена и фамилии. В силу, скажем так, ряда обстоятельств. Но не догадаться, что Белла Кипарисовна – это Алла Борисовна, по-моему, совершенно невозможно. Диалог Пугачевой и Достоевского – это диалог массовой культуры и культуры элитарной. Я именно так это писал. И вкладывал туда именно те жуткие отношения, которые сейчас сложились между элитарной и массовой культурой. Потому я и взял именно этих знаковых персонажей. Мне потому и нужен был сексуальный маньяк, чтоб спрятаться за его широкую спину. С его «помощью» все получилось очень хорошо. А вообще в этой войне, конечно, есть место всем – и Бритни Спирс, и Чехову, потому что все, кто сейчас живет, втянуты в эту войну. Не только русские, кстати. Просто у нас эта война проходит куда более трагично. Но это не война между НАТО и бывшим Варшавским договором. Это война иронии и пафоса. Первый раз в жизни я написал «человеческий» роман – с интригой, с сюжетом и даже с диалогами. При этом все же сохранил свой стиль.
– Ну хорошо. Премии вам не дадут, вы их не ждете, они тоже к вам не готовы. Но готов ли читатель к таким романам?
– Читатель, как мне кажется, готов. Он вообще относится ко мне лучше, чем думают критики. Он готов мне простить очень многое – именно за иронию и самоиронию. Хотя, разумеется, многие не готовы к такому жесткому сведению счетов, но это те, кто не способен понять ни иронии, ни самоиронии.
– Вас принято считать скандальным писателем. Не стыдно ли?
– Не стыдно. Потому что на сегодняшний день слово «скандальный» – синоним слова «современный». Я скандален ровно настолько, насколько сегодня скандальна русская литература и русская жизнь. И насколько скандальны ирония и самоирония.