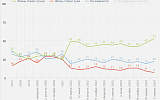Подумать только: долго-долго писать про «благоуханную ткань облака, сладостные лета, лилейную луну» и вдруг однажды написать: «Отвяжись, я тебя умоляю!/ Вечер страшен, гул жизни затих./ Я беспомощен. Я умираю/ от слепых наплываний твоих» («К России»). Наверное, ради этого и стоит жить – ради этих невероятных внутренних перемен, ради этой загадочной эволюции. Конечно же, никакого «вдруг» не было, можно даже проследить, как эта эволюция происходила, но куда заманчивей, перескочив через годы и сотню страниц книги, попасть из мира «сонного и сладостного лепета» в тот мир, где живет строка: «Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,/ а точнее сказать я не вправе» («Слава»). Если даже сам автор оставляет тайну тайной, то зачем нам пытаться препарировать нерукотворный процесс превращения автора клишированных анемичных строк в поэта, написавшего несколько стихотворений, без которых трудно сегодня представить себе русскую поэзию.
И все же не могу не задавать самой себе вопросы. Ведь случай Набокова особый – сплошные загадки: почти сразу виртуозная проза (казалось, даже не было периода ученичества) и беспомощные, даже порой трогательные в своей беспомощности стихи. Листаю книгу, составленную самим автором незадолго до смерти в 1977 году, и то и дело спотыкаюсь о «лепестки фиалок», о «бирюзовые купола», о «лепечущую тень». И это еще одна загадка: почему поэт, написавший несколько шедевров, поместил в этот итоговый сборник огромное количество неправдоподобно слабых стихов?
Где-то в конце 70-х мне попали в руки ксерокопии набоковской прозы, изданной за рубежом. Я влюбилась в «Дар», в «Другие берега», в «Весну в Фиальте». А чуть позже мне подарили ксерокопированный любовно кем-то переплетенный тамиздатский сборник стихов. Я открыла его и совершенно растерялась. Меня поразило все: и обилие невозможно слабых стихов и те несколько шедевров, которые я тогда прочла впервые. Сегодня я держу в руках ту же книгу стихов, переизданную издательством «Азбука» в прошлом году, и снова удивляюсь: почему Набокову так дороги эти откровенно слабые стихи, написанные в основном в 20-е годы? Почему ему так нужен «сонный, сладостный в аллеях шепот»? Почему он не захотел расстаться с «лилией в светящейся руке»? Почему эти стихи составляют большую часть им самим составленной и оказавшейся прощальной книги? А может быть, он любил себя того, каким был, когда писал эти стихи? Может быть, ему дорога та часть его души, которая диктовала ему эти простодушные, подражательные, но абсолютно искренние строки? Может быть, когда он их писал, он был ближе к России – к своим любимым Выре, Рождествено? И отказаться от этих стихов значило для него отказаться от всего, что было дорого когда-то? Может быть, не будь их, не было бы ни «Славы», ни «Влюбленности», ни «К России», ни «Расстрела» – ни всего того, без чего наша поэзия уже непредставима? И я смиренно листаю книгу, чтобы, добравшись до 240-й страницы, прочесть «дорогими слепыми глазами/ не смотри на меня, пожалей,/ не ищи в этой угольной яме,/ не нащупывай жизни моей!» («К России»). А на 245-й прочитать: «Не доверясь соблазнам дороги большой/ или снам, освященным веками,/ остаюсь я безбожником с вольной душой/ в этом мире, кишащем богами./ Но однажды, пласты разуменья дробя,/ углубляясь в свое ключевое,/ я увидел, как в зеркале, мир и себя,/ и другое, другое, другое».
Вот это «другое» и есть, пожалуй, главная тема набоковской поэзии. Об этих «лазейках для души», о невидимом, непостижимом – все его лучшие стихи.
Ему даровано ощущение тайны, которая хоть и прячется, но никогда не исчезает, делая мир бездонным и непредсказуемым. Так и кажется, что поэт не столько ловец бабочек, сколько ловец тайны, за которой он охотится всю жизнь. Но не с помощью сачка, а при помощи слова. Да в общем-то, он и не стремится ее поймать и присвоить. Ему необходим сам процесс поимки: «…как я люблю тебя. Есть в этом/ Вечернем воздухе порой/ лазейки для души, просветы/ в тончайшей ткани мировой./ Лучи проходят меж стволами./ Как я люблю тебя! Лучи/ проходят меж стволами, пламенем/ ложатся на стволы. Молчи./ Замри под веткою расцветшей,/ вдохни, какое разлилось, –/ зажмурься, уменьшись и в вечное/ пройди украдкою насквозь».
Сбитое дыханье, тревожное нетерпенье, призывы «замри, вдохни, пройди», как бы убыстряющийся темп речи, похожий на убыстряющиеся шаги, – все создает ощущение погони за неуловимым, погони, которая может оборваться лишь тогда, когда удастся пройти в вечное. Это даже и не стихи. Это сама ткань жизни, которую страшно порвать и к которой тянет прикоснуться. Она сквозит, создавая стойкое ощущение, что ТАМ, за ней есть нечто. Эти, пусть даже обманчивые, «лазейки для души», и есть та игра, которая стоит свеч. Это не игра виртуозного ироничного мастера с читателем, со словом, не знаю с чем и кем. Это опасная и пленительная игра с самой сквозящей тканью жизни, когда то тянет укрыться от нее в несуществующем темном углу, то, поддавшись соблазну, пройти насквозь.
Последнее стихотворение книги называется «Влюбленность». И в нем о том же – о бездонности, которая и влечет, и пугает: «Мы забываем, что влюбленность/ не просто поворот лица,/ а под купавами бездонность,/ ночная паника пловца./ Покуда снится, снись, влюбленность,/ но пробуждением не мучь,/ и лучше недоговоренность,/ чем эта щель и этот луч».
Тон этого стихотворения совсем иной, чем тон стихов, процитированных выше. В нем ни волнения, ни захлеба, ни сбитого дыхания. Оно суше и, казалось бы, прозаичнее – достаточно вспомнить протокольное словцо «напоминаю», с которого начинается последняя строфа, говорящая о потусторонности. И это сближение прозаизма с загадкой делает стихи незабываемыми.
В стихотворении «К музе», написанном в 1929 году, 30-летний Набоков говорит об уже наступившей осени и о некоторой скупости чувств, характерной для его зрелой поэзии: «Я опытен, я скуп и нетерпим,/ натертый стих блистает чище меди./ Мы изредка с тобою говорим/ через забор, как старые соседи».
Эта «скупость» не помешала ему, однако написать удивительные строки все о той же непостижимости: «Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный,/ все так же на ветру, в одежде оживленной,/ к своим же Истина склоняется перстам,/ с улыбкой женскою и детскою заботой,/ как будто в пригоршне рассматривая что-то,/ из-за плеча ее невидимое нам».
С трудом удерживаюсь от того, чтобы не выделить слова «на ветру, в одежде оживленной» – так мне хочется, чтобы эту строку заметили, задержались на ней взглядом. Ведь в ней и свежесть, и радость бытия, и то острое чувство непостижимости мира, которое, кажется, и держит поэта на плаву.
Скупость средств, о которой поэт говорит в стихотворении «Муза», продиктовала ему и совсем другие – жесткие, лишенные эпитетов стихи: «Благодарю тебя, отчизна,/ за злую даль благодарю!/ Тобою полн, тобой не признан,/ я сам с собою говорю./ И в разговоре каждой ночи/ сама душа не разберет,/ мое ль безумие бормочет,/ твоя ли музыка растет...».
Если все приведенные выше строки есть результат беседы с музой «через забор», как беседуют «старые соседи», то и слава богу. Ведь через забор долетели до поэта и такие стихи: «Люби лишь то, что редкостно и мнимо,/ что крадется окраинами сна,/ что злит глупцов, что смердами казнимо;/ как родине, будь вымыслу верна... О, поклянись, что веришь в небылицу,/ что будешь только вымыслу верна,/ что не запрешь души своей в темницу,/ не скажешь, руку протянув: стена». Счастлив тот, кто сохранил эту веру в небылицу (синоним тайны) до конца своих лет, кто не уперся в стену, не запер свою душу в темницу и позволил ей охотиться за неуловимым. Набоков из числа таких счастливцев.