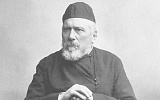Семейные чтения – это разговор родителей с детьми на важные темы. Иллюстрация создана при помощи нейросети Vecteezy
Семейные чтения – это разговор родителей с детьми на важные темы. Иллюстрация создана при помощи нейросети Vecteezy
Ольга Борисовна Бухина – переводчик, эссеист, литературный критик, специалист по детской литературе и клинический психолог по образованию и первой профессии. Родилась в Москве. Первые произведения, переведенные с английского, – «Принц Каспиан» и «Последняя битва» Клайва Льюиса из цикла «Хроники Нарнии» – вышли в 1992 году в издательстве «Советский композитор». В последующие годы самостоятельно и вместе со своей сестрой Галиной Гимон переводила на русский Энид Блайтон, Элизабет Гоудж, Мэри Стюарт, Карла Сэндберга, Луис Фитцью, Мэг Розофф, Хелен Купер, Жаклин Келли, Элизабет Джордж Спир и многих других авторов. Перебравшись с 1998 года в Нью-Йорк (США), работала в фонде по поддержке гуманитарных наук, совмещая деятельность с переводами и литературной критикой. К системным исследованиям в области детской литературы обратилась в начале 2010-х годов. В соавторстве с сестрой написала книги «Язык твой – друг мой», «В общем, про общение» и «Праздник! Праздник!». Путеводитель по детским книгам о сиротах «Гадкий утенок, Гарри Поттер и другие», выпущенный в 2017 году, создавала единолично. Книга «Жизнь и смерть: самые важные вопросы детской литературы» (2025), идейно связанная с предыдущей, стала результатом многолетнего труда литературного критика, переводчика и психолога.
«Ее нет», – говорила Анна Ахматова. Иосиф Бродский писал: «Это только равнины». А вот Утка из книги немецкого писателя и художника Вольфа Эрльбруха, болтая со Смертью после купания в холодной воде, ни капельки не сомневалась в том, что подруга ее реальна: Смерть действительно сидела рядом и крупно дрожала, внимательно слушала и удивлялась, задумчиво кивала и улыбалась. Впрочем, не стоит забывать – что хорошо Утке, то не очень свинье. Будь она Бэйбом из повести Дика Кинга-Смита, розовым Уилбуром из «Паутины Шарлотты» Элвина Брукса Уайта или военным летчиком из «Порко Россо» Хаяо Миядзаки. Иными словами, смерть, как и жизнь, непредсказуема и многогранна. Какой разной она предстает в книгах, написанных для детей и подростков, Вере БРОЙДЕ рассказала Ольга БУХИНА.
– Ольга Борисовна, какой вы были в семь с половиной лет? Какие вопросы вас тогда занимали и где вы на них искали ответы?
– Застенчивая, медлительная. В детском саду у меня было прозвище Мямлик, Шустрик там тоже был. И я не желала читать, хотела только слушать книги – впрочем, папа мне их исправно читал. Но я довольно плохо помню себя в детстве – очень любила смотреть, как вода собирается на бархатистых листиках какого-то растения. А вопросов, как и ответов, особенных не помню. У меня в голове скорее остались отдельные интересные картинки.
– Вы жалеете о том, что какая-то книга, рассказывающая о жизни и смерти, об их столкновении и вражде, о прощании и прощении, не попалась вам тогда, когда вы в ней особенно нуждались, потому что она еще не была написана или переведена?
– Я очень боялась смерти, когда была маленькой, но это началось уже позже семи лет. Может быть, если бы какая-то особая книжка мне в то время попалась, было бы легче. Притом что сознательно я не помню никаких реальных смертей близких в этот период, они были или раньше, или позже. Но я думаю, что и мне помогали книжки, потому что в тех из них, что я тогда читала, смерть вполне себе присутствовала – или по крайней мере угроза смерти. Например, в «Детях капитана Гранта» – там она есть и страшно важна, а я эту книгу очень любила.
– Мы как будто обретаем вторую, или «настоящую», действительно осмысленную жизнь, когда нас кто-то любит, когда мы сами любим, когда любовь взаимна, и странным образом становимся похожи на плюшевых слонов, резиновых медведей и пластиковых кукол, что точно так же оживают, найдя в ребенке друга. Но значит ли все это, что истории Алана Милна о Винни-Пухе или Кейт Ди Камилло о Кролике Эдварде следует воспринимать только как примеры символической сублимации?
– Я ведь бывший психолог, поэтому мой ответ – нет. Хотя соблазн увидеть это таким образом достаточно велик. Дети до какого-то возраста просто не ощущают существенной разницы между человеком и игрушкой, между живым и неживым. Поэтому любовь к игрушке – это такая же любовь, что и к человеку или домашнему зверю. У детей оживает все, а писатели это только фиксируют. Я в какой-то момент играла в пуговицы – у бабушки была большая коллекция всяких пуговиц: там были король с королевой, принцессы и солдаты. Потом пуговиц сменили маленькие фишки – они были индейцами, совершенно живыми: у каждой деревянной фишки был свой характер и своя роль.
– Как вы думаете, может ли детская книга о смерти, автор которой ставит перед собой отнюдь не терапевтические, но исключительно художественные цели, оказаться полезнее и сделаться любимой? Для вас как читателя и для ребенка как вопрошателя?
– Если книжка ставит только терапевтические цели, то это научно-популярная литература, или, как теперь принято говорить, «нонфик», – даже если она написана в форме художественной литературы. Однако и художественные книжки могут прекрасно выполнять терапевтические функции. А любить можно и те, и другие.
– В той части вашей книги, которая посвящена подросткам и популярным фэнтезийным историям, где «ненастоящие» герои обыкновенно гибнут, словно мухи, через абзац или страницу, вы объясняете это «изобилие» смертей невозможностью вступления во взрослую жизнь без «примирения со смертью»: ведь невозможность такого рода, с одной стороны, подталкивает к тому, чтобы не бояться смерти, а с другой – верить в то, что эта смерть тебя не коснется. Наверное, в подобных декорациях страх смерти должен предстать чем-то вроде пережитка детства. Однако люди зрелые, все еще страшащиеся смерти, с этим вряд ли согласятся. Нет ли тут противоречия?
– Страх смерти – это не пережиток детства, он может остаться с человеком до последнего дня жизни, а может уйти, причем по разным причинам. У всех это по-разному: кто-то не боится смерти, потому что верит в бессмертие, а кто-то как раз наоборот – потому что не верит. Книжки передают какие-то общие типажи. А что до подростков, то у них это все как раз происходит одновременно – они и боятся смерти, и как бы дразнят ее, пробуют жизнь «на крепость». Иногда это плохо кончается.
– Почти во всех книгах, упоминаемых вами, смерть непременно обладает смыслом, который ее оправдывает, приучает героев к жизни или выводит их, оставшихся, не побежденных смертью, на новый уровень понимания мира, времени и себя. Знаете ли вы книги, авторы которых трудолюбиво искали, но так и не нашли какой бы то ни было смысл в смерти – и продемонстрировали его отсутствие как доказательство своей правоты?
– Но тогда это будут скорее взрослые книги. Потому что ребенку очень трудно обходиться без смысла.
– А почему в составленном вами списке детских книг, рассказывающих о смерти, нет «Детства» Льва Толстого?
– Потому что я не считаю ее детской. Хотя она и посвящена детству... Да, я упоминаю некоторые взрослые книги, но только в каких-то особых случаях, когда мне надо что-то показать, выявить что-то определенное.
– «Под защитой» Клэр Зорн, «Другая мать» Мэтью Дикса, «Зак и Мия» Эй Джей Беттс, «Когда здесь была Марни» Джоан Робинсон, «Синяя птица» Киёси Сигэмацу, «Блидфинн» Торвальда Торстейнссона, «Дети короля» Сони Хартнетт, «Девственницы-самоубийцы» Джеффри Евгенидеса – каждая из этих книг рассказывает о смерти в разных ее проявлениях. И ни одна из них не упоминается в вашей. Не могли бы вы рассказать о том, как выбирали произведения, по каким причинам включали одни, исключали другие?
– Многие книги из этого перечня следует отнести к литературе young adult, или молодежной литературе. Я же все-таки старалась больше писать о детских книгах, хотя, конечно, и в подростковые заглядывала. Да, в части таких книг главные герои дети, но все же это отдельный жанр, к анализу которого надо подходить иначе. В литературе young adult практически все книги затрагивают тему смерти – про это придется писать отдельное исследование.
Когда собираешь «коллекцию» книг, о которых хочешь написать, труднее всего остановиться: хочется впихнуть все возможные темы и подтемы, книжки. Но в целом принцип у меня был таким: по паре книг на каждую тему, причем желательно либо из разных эпох, либо из разных стран. Кроме того, я старалась сохранять баланс между переводными книгами и книгами, написанными по-русски. К тому же всякий выбор – это индивидуальное решение. Мне в первую очередь должно быть интересно писать про те или иные книжки. Этот субъективный подход меня вполне устраивает. Так что получается много причин сразу.
– Для разговора о смерти в антиутопиях вы выбрали роман Лоис Лоури «Дающий», где тема «удаления» из мира рассматривается в контексте несоответствия человека возложенным на него свыше ожиданиям. Вместе с тем разделение людей на «материал» и тех, кто за счет этого материала будет жить долго и по возможности счастливо, становится основой для сюжета романа Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». Почему не его книгу, а Лоури вы взяли в качестве примера, показывающего обреченность человеческой жизни?
– Роман Исигуро уж точно не детская книга, а книга о детях. И очень страшная. У Лоури все на самом деле гораздо менее страшно именно потому, что книга рассчитана на детей.
– Насколько утешительной, спасительной, губительной или простительной вам кажется вера ребенка – героя книжной истории или ее читателя – в то, что после смерти человек не всегда умирает или умирает не до конца? И будут ли разными ответы на этот вопрос, если оценивать подобную веру не с точки зрения верующего или агностика, а с точки зрения человека сочувствующего, человека взрослого, детского писателя или критика?
– Ребенок верит в разные вещи, как, впрочем, и взрослый. Я не нахожу веру ребенка ни утешительной, ни спасительной, ни губительной, ни простительной, а просто естественной. В любом случае взрослый должен сочувствовать ребенку, независимо от того, кем этот взрослый является. К тому же каждый из нас может совмещать более одной позиции: например, быть одновременно писателем, критиком и верующим человеком или писателем, критиком и агностиком.
– Вспоминать старое и перечитывать, искать новое и открывать, множить списки и их сокращать – какое из этих действий в процессе работы над книгой оказалось для вас наиболее трудным, наиболее болезненным, наиболее важным?
– Вспоминать и перечитывать всегда приятно, хотя иногда это приводит к неожиданным результатам. Но, как я уже сказала, труднее всего остановиться. Если этого не сделать – получится не книга, а просто каталог. Писать «Жизнь и смерть...» мне было нелегко: сложнее, чем я ожидала, и сложнее, чем писать про сирот. Но, может быть, это все так еще из-за времени – уж очень оно оказалось трудным: куда более трудным, чем прежнее.