 Два Бродских – настоящий и забронзовевший. Фото Сильвии Виллинк
Два Бродских – настоящий и забронзовевший. Фото Сильвии Виллинк
Плачущий Бродский
Да, 2 июня 1972-го. Мы с Володей Соловьевым только что вернулись из скоростной союзписательской поездки по Финляндии–Швеции. Впервые побывали за границей, на вожделенном Западе. Глотнули неразбавленной, как озон, свободы. Обалденно. Звонит телефон. Ося Бродский – попрощаться, 4-го улетает в Вену. Как обухом. Еле трубку удержала. Знала, прекрасно знала, что его турнули из страны, но просчиталась в сроках. «Ося, пожалуйста, мы к вам едем». – «Ничего не имею против». И вот мы в его заветной «берлоге». Уясняем – последний раз. Как-то провели здесь целую, до рассвета и первых троллейбусов, ночь. Ося нехорош. Угнетенный, растерянный. Напрочь уперт в трагедию. С кривой улыбочкой показывает обмененные ему доллары. Тут же – популярный набор фотографий цветов и растений России. Предъявляет стопку книг, которые берет на чужбину, – все о старом Петербурге: Лукомский, Анциферов. Читанные-зачитанные. Поглаживает обложку «Души Петербурга». Еще не уехал, а уже ностальгирует.
Мы с ходу, наперебой: Ося, не бойтесь, не страдайте так, все будет хорошо, будет просто замечательно – и впариваем ему наши идиотские восторги от заграницы. Ося слушал внимательно и, как ни странно, с личным интересом. Что-то спрашивал, вникал сочувственно и на полном серьезе. До меня дошло невероятное. Мы – считавшие его знатоком западного мира, записным американофилом, в приятельстве с массой иностранцев и прочее – были для него единственными достоверными вестниками «оттуда». Куда он, как оказалось, вовсе не собирался, тем более безвозвратно:
– Нет-нет-нет! Не было такого позыва, такого соблазна. Мысли не допускал. Наоборот, совсем наоборот. Задумывал поплотнее, ну – понаглее, что ли, то есть нажимая на свои липовые права, – осесть в отечестве. Этот год был для меня самый лучший, самый лучший. Стихи писались изумительно, с Нового года и далее – безостановочно. Подумал даже, что такая хорошая инерция пошла – удачи, успеха, толковости... ну, не инерция, ненавижу всякую инерцию в работе, а такой импульс зрелости, когда уверен, что выйдет хорошо, выйдет отлично, на все сто. О стихах, вестимо. У меня были планы на этот год, на следующий. Дальше никогда не заглядываю.
Резко оборвал меня, спросившую, где он там, на Западе, собирался приземлиться:
– Откуда я знаю! Разве в этом дело? Главное – не куда, а откуда!
Как же, говорю, полонез Огинского «Прощание с родиной». Только тогда Ося заржал. Не в родине тут было дело. О самом главном, что поедом ело его, – что стишки лишатся ежедневной подпитки родной речью, о страхе потерять русский язык, – не говорили.
Уезжал он – в никуда, неизвестно к кому и зачем. Вену изобразил, кривляясь, дирижером с палочкой над вальсами Штрауса. «Но и ваш любимый Моцарт там же». – «Знаю, знаю – ну и что?» Трудно было его раскрутить – в таком пребывал напряге. Как могли, любыми дешевыми штуками, мы его утешали. Отвлекали, снижали на тормозах его неописуемую трагедию. Так протрепались, с бурными интермедиями – Ося, понятно, не мог сидеть на месте, – часа три, а то и больше. Удивляло – за все это время ни гостя, ни телефонного звонка.
Ближе к концу сказал с нажимом, что написал письмо к генсеку. Показал и дал прочесть. Машинопись, адресат помнится так – «Кремль. Л.И. Брежневу». Пока – без подписи. Сам текст – вполне цивильное, без проклятий, но с укором и загадочное – ввиду адресата – моралите на тему «сам живи и дай жить другим».
Тут я – каюсь – и ввернула, не подумав:
– Это, Ося, на деревню дедушке – ни до Кремля, ни до Брежнева не дойдет.
Не поняла, что письмо – открытое, широковещательное – всем, всем, всем, urbi et orbi. Что таким – историческим и патетическим – жестом Бродский предваряет свою заграничную судьбу. Умно и дальновидно рассчитывает будущее. А у меня – страсть сводить на землю любую высокопарность. Ну не дошло до меня. Пауза. Ожидали взрыва. Но Ося так смутился – будто ушатом холодной воды. И тут же убрал листок. Когда позднее, по «вражьим голосам», это его открытое письмо Брежневу подавалось как спонтанный отчаянный жест поэта-изгнанника в момент изгнания из страны – то есть 4 июня, мы с Володей посмеивались – читали письмо днями раньше.
Ося долго не отпускал нас. Ему было не напрощаться. Не с нами лично – и навсегда. Ужасно не хотел остаться наедине с собой, в кромешном одиночестве. Прощались много раз – в его закутке, в узейшем коридоре, на лестничной площадке. Наконец Володя протянул ему, окончательно прощаясь, руку. Ося маячил какой-то весь смятенный. Я рванулась и обняла его. Он ответно приник и уткнулся мне в волосы. Когда я попыталась отстраниться, Ося попридержал меня, справляясь со слезами. Всхлипнул, как бы закашлялся и отскочил в сторону, вытирая пальцами глаза. А говорил, что никогда не плачет.
«Он носил меня на руках»
Действительно носил, и дорого же мне обошлось это его непрошеное галантное рыцарство!
Но сначала – о наших с Володей совместных днях рождения. Нас угораздило родиться в один год и месяц, с разницей в пять дней. И мы устраивали день рождения между 20 и 25 февраля, чтобы званый день пришелся на субботу. Каждый год – новый срок, что смущало и сбивало с толку наших друзей, не знающих, когда нас поздравить и когда пожаловать в гости.
Куда те дни девались, ныне
Никто не ведает – тире –
у вас самих их нет в помине
и у друзей в календаре, –
напишет Бродский в посвященном нам стихотворении.
Обычно к нам заваливалась, тесня литературных людей, хохочущая, искрометная – в шутках, анекдотах, импровизациях, комических сценках – театральная молодежь (Володя работал завлитом в театре), и день рождения превращался в дурашливое, потешное, ликующее смехачество. В 68-м круто изменилось. Вместо артистической жизнебуйственной гульбы – театр одного актера. Ося Бродский напросился к нам на день рождения. Именно напросился. Нам бы в голову не пришло позвать его, практикующего тогда высокий стиль в обиходе, на наш развеселый сабантуй.
Мы были польщены, хотя прекрасно понимали – Бродский ищет, чисто животным чутьем, новую аудиторию для своих стихов. Он был непечатный поэт, по жизни, в обществе – изгой и отщепенец, но обречь свои стихи на изгойскую тупиковую участь не соглашался никак. Всюду, где только мог, по квартирам, по телефону, при любом стечении публики он читал стишата. Его не печатают – так он сам добывал себе читателя в виде слушателя, как сам, при крутейшем зажиме, брал себе свободу и писал стихи как хотел, безоглядно и вдохновенно. И Бродский зачастил к нам – четыре года подряд, на пятый – в 72-м – не смог, отделался подарочным стишком «Позвольте, Клепикова Лена...». Отныне наши деньрожденческие вечера разыгрывались по единому сценарию. Бродский всегда запаздывал. Собиралось общество. Народ самый разный – тут и основное ядро литераторов – друзей, которые знали Осю, и Ося знал их, и пестрая, постоянно меняющаяся публика – артисты, художники, режиссеры и всякий пришлый интересный народ. Знакомились, оседали за столом, оценивали еду-питье.
Вот он появляется – с улыбочками, с ужимками, извиняется прилюдно, что без подарка, хотя и так всем ясно, что самый ценный, ну просто драгоценный подарок – он сам. Скромно подсаживается к столу – ему уже заготовлено «ораторское» место, интуитивно схватывает общий – к нему – настрой: дружественный, ласковый, почти любовный. Много говорит, мало ест, совсем не пьет.
Встает. Начинает спокойно, но вот – от строки к строке – распаляется, разгоняя в себе вдохновение, и уже пошло-поехало – по нарастающей – это его коронное, хватающее за душу, отчаянное вопление – до крика, до исступления. Выкладывался на всю катушку. Дико нервничал, сильно потел. Помню подмышечные полукружья на его светлой рубашке. Происходил мощный выброс несомненно творческой энергии.
Читая на публику, да еще так импульсивно-интенсивно-запальчиво читая, Бродский неизменно пропускал, сглатывал слова, строки – не потому, что забыл, а – бракуя себя, на ходу исправляя. Прилюдные его декламации были не совсем альтруистичны. Была потребность «проветрить» новый стих. Не дать застояться, закоснеть, свернуться улиткой. Голосом он устраивал своим стихам генеральную репетицию – перед тем как пустить их в свет: в самиздат, а потом и в тамиздат. У нас неизменно принимали Бродского на ура. С восторгом, с изумлением, с литаврами. Понятно, другим поэтам, бывавшим у нас, его блистательный триумф был не в радость. Никто из них – при нем – не решался выступить с чтением стихов. За одним, правда, исключением. Когда прибыл из столицы Женя Евтушенко и мы пригласили на него Кушнера и Бродского – и состоялся тот удивительный турнир поэтов.
Обычно Ося по собственному почину читал пару-тройку новых стишат. Не все его стихи проходили потом визуальную проверку – чтение на глаз. Но когда читал – не замечалось, все насквозь гениально. Потом публика, в ажиотаже и наглея, требовала еще стихов. Даже заказывали на свой выбор. И Бродский – все в том же беспощадном, все силы и нервы выматывающем ритме – читал до изнеможения. Бывало, что и целый час. Безостановочно. Водилось за ним свойство – восстанавливаться – из полного упадка – буквально за минуты. Вот он валится, вусмерть измотанный, на свое «ораторское» место – в любовь-заботу-ласку благодарной, виноватой, пылко раскаянной публики. Усталости как не бывало! Снова – в ударе, в своем обычном напряге, свежий и крепкий – оживотворенный! Остаток вечера проходил «под знаком» Бродского – как бы в непрерывных отблесках, эманации его притягательной, да что там – обворожительной! – личности. Всегда сидел до конца, уходил со всеми.
Наши дни рождения обращались в поэзовечера или, если Ося был в особенном ударе, в поэзоконцерты. Если раньше наши гости приходили все-таки «на нас», то в изображаемое время – «на Бродского», оттесняя виновников торжества на задний план. Доходило до смешного – малознакомые, а то и вовсе незнакомые набивались, навязывались в гости, чтоб только повидать и послушать недоступного, непечатного, опального Бродского. Если ему тогда требовались поклонники, приверженцы, да просто свежий внимающий – не обязательно понимающий – слушатель, у нас он их находил сполна. Полюбил к нам ходить. Называл наш дом – «литературный оазис в ленинградской пустыне».
А на руках Бродский носил меня в один из наших дней рождения, где он читал стихи. То ли в 70-м, а может – в 71-м. Ося мощно наступал на аудиторию, захватывая ее. Застольный сосед, бывший мой учитель литературы, напросившийся на Бродского, реагировал своеобразно – от смущения, от волнения то и дело наполнял стакан почему-то мне, а не себе. И, впервые в жизни, я – вырубилась. Дальнейшее – со слов очевидцев. Ося первый спохватился: «Где Лена?» Нашли меня без проблесков сознания прильнувшую к боковине нашей диковинной, из XIX века, медной ванны. Ося немедленно предложил вывести на свежий воздух. Оделись, тщательно – под наблюдением Бродского – закутали меня и сволокли с последнего, четвертого этажа на улицу, в мороз и снег. Здесь Ося, опять же со знанием дела, стал приводить меня в чувство – растирал лицо снегом, уговаривал глотнуть горстку снега, экспертно налаживал глубокое дыхание. Все впустую. Сопровождение, включая мужа, возроптало. Надоело возиться со мной. Да и февральский мороз кусался. Невдалеке, на снегу, маячили две черные фигуры – закоченевшие топтуны, кагэбэшная свита Бродского. И Ося, сострадая, предложил вынести им по стаканчику – «замерзнут насмерть, и будет на моей совести».
Предполагалось: как, совместными усилиями, сволокли по лестнице вниз, так и – поднатужившись – купно втащить наверх. Но Ося растолкал всех и, взгромоздив на руки, понес меня (в пудовой зимней оснастке) по нашей крутейшей лестнице и без передыха на высоченный четвертый этаж и (как говорят) с видом победителя в атлетическом состязании внес в дом, в комнату, на кровать – только тогда остановился. И как ни в чем не бывало – с ходу вошел в развеселое застолье. Долго я угрызалась, терзалась – а ну как сорвал больное сердце? надорвался до травмы? Уж эти мне его мужские, самцовые победительные страсти – всегда быть первым, обгонять всех, прыгать выше головы! Никогда не считала его здоровяком. Видала – и не раз – киснущим, понурым, квелым – да, в той самой болезной, неистребимо советской – под рубашкой – сиреневой телогрейке.
Наблюдая мои страдания, Соловьев посоветовал в шутку сочинить мемуар о Бродском и назвать «Он носил меня на руках». Вот и называю.
Ночь в доме Мурузи
В сентябре 1970-го «Аврора» праздновала свой первый день рождения. Присутствовала не только художественная, но и комсомольско-партийная элита во главе с Романовым, первым секретарем Ленинградского обкома партии. Бедняга сбежал в разгар празднества, когда к нему на колени лунатически порхнула отрешенная от реала Жанна Ковенчук, гладила по голове и что-то горячо и нежно внушала. Такие тогда были не то чтобы демократические, а разгульно-либеральные нравы. Городские власти не поскупились – шампанское, вино и всякий алкоголь лились рекой, да и закусон был отменный. Гульба потянулась заполночь, когда мы трое – я, Саша Кушнер и, меж нами, пьяный в хлам Соловьев – выкатились на Литейный. Пока мы с Сашей соображали, как добраться домой, Соловьев решил за нас. Домой отказался наотрез: «Только к Осе, хочу к Осе, ведите меня к Осе!» Он любил Бродского, как любят женщину. А может быть, еще нежней. Без звонка, в час ночи! «Что у трезвого на уме...» Сопротивляться бесполезно. Да и Кушнер любопытствовал – не бывал у Бродского ни разу. Ни до, ни после. Ося жил рядом. К счастью, еще не ложился. Принял нас спокойно, без удивления. Володя был усажен в закутке, Ося ловко ввинтил ему на колени тазик, и, склонившись над ним, Соловьев мгновенно уснул. А мы с Кушнером разместились на диване против Бродского, и пошел у нас разговор на всю ночь. Пять часов беспрерывно. Что запомнилось.
Когда говорили о стихах, мелькало, конечно, у всех: Кушнер печатается на 99,9%, Бродский – на все сто непечатный. Саша – осторожно, деликатно: поддерживает ли отношения с «Юностью», где когда-то приветили и хотели напечатать? Ося хмыкает: ни в коем случае, завязал со всеми изданиями, ничего не посылаю. Ни в «Юность», ни в «День поэзии». Никаких новых подборок. Потому как – крадут. Воруют по-черному. Не знаю, как это у них там получается – плагиат не плагиат, прямо не обвинишь, мои стихи не печатают, а вот появляется какой-то новый автор, и у него мои приемы – те же самые приемы. Весь ритмический наклон стиха. Который, скажем, я открыл. Никто в наши дни так не пишет, ни один советский поэт. Вдруг вижу – мое. Как же получается – меня не печатают и у меня же воруют. Жуть!
Как всегда, я напросилась на стихи. Ося вежливо-покорно согласился – как хозяин, вынужденный потчевать непрошеных гостей. Взял со стола пачку машинописи и ровно, не выделяя прекрасностей, стал читать из большого и, кажется, еще не оконченного стихотворения с первой строкой «Империя – страна для дураков». Помню, что оборвал он, поиграв с текстом: «...и растворяется во тьме, дав знак, что дальше, собственно, идти не стоит». «В самом деле, не стоит», – хихикнул, отмахнувшись от моих сантиментов – стихи были изумительные. В ответ на мои претензии, что сам же дает на отзыв рукописи, а никакие замечания (иногда фактические ошибки) не приемлет (вспоминаю, как напрасно мы с Соловьевым трудились, по его просьбе, над композицией рукописи «Остановки в пустыне» – одобрил, даже восхитился, но не внял).
Смеется: «К критике – любой – невосприимчив. Советы, замечания, даже если вздор у меня – хотя вряд ли, но предположим, – как мертвому припарки! Знаете – почему? Потому что меня с детства все время ругали. Ругали и ругали – за все, всегда мною страшно недовольны. Всех (двоюродные братья) ставили мне в пример. Я был хуже всех. Не просто плохой, а – никчемный, ни к чему не годный. Неуправляемый, невыносимый. Сплошная – изо дня в день – ругань. Что плохо учился, совсем не учился, грублю, хамлю, вообще не то и не так говорю. Отчасти, может быть, и справедливо. Но только отчасти. Столько ругательской энергии было на меня обрушено, что если бы пустить в дело – электростанция заработала! И я стал защищаться. Точнее – разработал защитные меры. Приучил себя отключаться, обособляться. Ну ругают и ругают. Я же – не то чтобы не слушаю. Я – не слышу. Неуязвим и сам по себе. Неприкосновенное лицо.
Так я и критику, и любые, в мой адрес, замечания – воспринимаю как ругань. Интуитивно. Такая, чисто аллергическая, реакция. Ничего не поделаешь».
Говорили в ту ночь обо всем, обо всех, но больше – о самом Бродском. И он был на редкость словоохотлив. Вот, к примеру, циркулировали в узком кругу знавших и любопытствующих о нем людей слухи, постепенно ставшие легендой: как 15-летний школьник – бунтарским, едва не крамольным жестом – бросил школу. Волевой акт ухода. Среди многих поразительностей в биографии Бродского этот его радикальный поступок особенно дивил. И вот сидим мы рядышком, я и Кушнер, оба медалисты, Саша к тому же – школьный учитель, интересуемся – как это Ося посмел, решился бросить школу. Ося – трезво, со скукой: «Никакого вызова не было. Никакого бунта! Было – отчаяние, полный тупик. Кромешная безнадега. На самом деле: не я бросил школу, это школа бросила меня.
Как все случилось: дважды просидел в седьмом классе, побывал второгодником – шутка сказать! В восьмом – только начались занятия – не врубаюсь, не схватываю, не понимаю ничего. Такое помрачение сознания. Или полное затмение ума. Геометрия там, физика-химия, или английский – представьте себе! – это еще полбеды, хотя сознавал – завалю непременно. Что меня подкосило – ну прямо наповал! – это астрономия проклятая (он точно назвал астрономию, хотя в восьмом классе вряд ли числился этот предмет. – Е.К.). Что там, о чем там, вообще что это такое – не вникал. Ну никак. Полный завал. Это был для меня конец. Сиди, не сиди в школе – не поможет. И я школу бросил. На третьем месяце в восьмом классе. Никаких заявлений – просто перестал ходить в школу. Прогуливал, где-то скрывался. А потом родителей вызвали. Ну и представьте, что там для меня началось – конец света!»
Это единственный раз, когда я слышала от него опровержение – скорее всего им же распространяемой – легенды. Не могу сказать, что он подтверждал позднее эти слухи. Но никогда их больше не опровергал – ни в Питере, ни когда отвалил за кордон. Подходило к шести. У Оси – размытое от усталости лицо. Мы с Сашей разминаем затекшие ноги. В прекрасном, однако, настроении – наговорились всласть.
Будим Володю. Просыпается трезвый, выспанный, готовый к тому, ради чего привел нас к любимому Осе, – говорить, говорить, говорить. «Куда вы торопитесь?» Ничего не оставалось, как сказать ему: «Ладно, мы уходим, а ты оставайся».
И ловлю нервную оторопь, почти ужас на лице Бродского.
Нью-Йорк








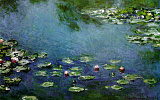

комментарии(0)