
|
|
Наталия Гилярова как жила, так и писала, без притворства. Фото Сергея Генералова |
Проза писательницы Наталии Гиляровой особого свойства. Она словно не писала, а плела кружева. Ниточка, из которой выплетала (или, если хотите, глина, из который месила) она своих героев, живая, живородящая. Получались из нее очень узнаваемые типажи. Взять хотя бы ее книгу «Финтифля»: «В личике наблюдалось то неизъяснимое, что составляет главную загадку жизни. При этом фигурой он отличался грациозной и соразмерной, как египетская статуэтка». Или: «У Юли большие оттопыренные уши, утяжеленные еще очками, сутулая спина, волосы оттенка тараканьей лапки».
Финтифля, ошибка природы, кукла с оторванными руками и ногами, самый творчески одаренный человек, на которого все махнули рукой, а он сидит себе тихонечко в углу и сочиняет гениальный вздор. Гилярова была не от мира сего, Финтифля, но самой высокой пробы.
Вспоминаю и ее последнюю вещь, она называлась «Оранжевая книга: фантастический роман в звательном падеже». Название уже как поэтическая строка. А дальше: «Светлана обитала в мире, где в небе по ночам виднеется рожица Луны и висит на небесном гвозде привычный, как собственная суповая поварешка, ковш Большой Медведицы».
Наталия Гилярова, как и ее герои, обитала в мире необычайном. Ярком, сочном, как апельсин. Она была сказочница по духу. Человек наивный, простодушный. И, наверное, переселилась в мир апельсиновой планеты, следуя за героиней своей книги. На ней жила сиротка по имени Света. Очень модным имя Света было в послевоенное время. Людям не доставало света, и они называли своих детей Светами. Так, как мне кажется, и сейчас людям не хватает света. Писательница восполняла эту недостачу в романе «Оранжевая книга», разбитом на рассказы, новеллы. Любовную новеллу, как и недостаток любви, сказочница Гилярова вывела из пакета кефира: «Цветка бела, бледна, в ее лице нет жизни. В организме недостает чистого вещества любви. Она ищет недостающее везде. Она подметила, что при некоторых обстоятельствах и пищевой продукт тоже содержит малую толику нужного вещества».
Цветка – не описка, Цветка – она же Светка. Хорошее, доброе имя – Светлана. Сейчас все больше Полины, Настасьи, Дарьи. Одна моя знакомая Света рекламировала не так давно в телевизоре капусторезку, получая от этого огромное удовольствие. Светы – они такие. Сами светятся и другим дают луч надежды. И Гилярова была такая же – добрая, прощающая людям простые человеческие слабости. Современная литература, бичующая пороки цивилизации, как-то незаметно и сама стала чересчур порочной. Обаяние порока непреодолимо. А вот Гилярова шла от обратного: от непорочности. Вот и героиня ее – Светка – ведь с неба упала. Надо же, взяла и назвала книгу – Оранжевая. Желтый ослепляет, цвет очень яркий и непоэтичный, а вот оранжевый…
«Оранжевое близко к совершенству. Лисички – оранжевые, и они – неправдоподобны. Вызревают целыми полянками, и червячков от вида их грибной плоти берет оторопь. Морковь – сладость и яркость в толще земли. Тыква наливается солнечным веществом до чудовищной гипертрофии!»
Я бы добавил в компанию к лисичкам мухоморы и подосиновики. Мухомор – он хоть и ядовитый, но довольно жизнерадостный гриб и вообще считает себя самым главным в лесу. Возможно, все это оранжевое словотворчество родилось в каком-то смысле из советской песенки в исполнении грузинской девочки Ирмы Сохадзе:
Вот уже подряд два дня
Я сижу – рисую.
Красок много у меня –
Выбирай любую.
Я раскрашу целый свет
В самый свой любимый цвет.
Потрясающая песенка, потрясающий голос. Вообще же надобно сказать, что середина 60-х – это какой-то ренессанс гуманизма. Потрясающие (вот и я, кажется, заразился этим оранжевым настроением) кино и музыка. Актеры, поэты, которых, к большому сожалению, больше не будет. Даже Ленин стал чуть ли не «ангелом» благодаря этой эстетике шестидесятничества.
Читая Гилярову, я вспоминал и недавно ушедшую Валерию Нарбикову. У Нарбиковой было вот это воздушное простодушие и словоплетение, как будто она не пишет, а свитер вяжет. Новелла Матвеева тоже была под стать гиляровской эстетике облагораживания окружающего пространства, облагораживания мелочей, до которых окружающим нет никакого дела, а ей – есть! У Гиляровой было это сказочное качество, возможно, еще оттого, что она была мастером рукоделания: мастерила украшения. Ведь хороший автор слово ощущает на ощупь, трогает его подушечками пальцев, а потом только выписывает ему направление – в рассказ, новеллу. Да, собственно, все рассказы, сказки, книги мастера по рукоделилию были выплетены, выписаны любовью. Гилярова была абсолютно не от мира сего автор, ни на что не похожая. По сути, поэт: «Под подошвами поскрипывал безоблачный снежок. Сердце просыпалось и оглядывалось по сторонам…» Придумать такое невозможно, а вот сотворить, как Гилярова, можно. Но для этого надо было быть Гиляровой – очень зоркой, наивной и простодушной. И почему это, интересное дело, она была не Света?
Ее сказки, новеллы были немножечко архаичны. Такая же ситуация и со звательным падежом. Звательного падежа в современном русском не существует. Хотя что-то и осталось. Теперь приблизительно там же будет существовать и Наталия Гилярова. Если бы меня когда-нибудь назвали архаичным, я бы умер от счастья. Но от счастья не умирают, а только притворяются. А вот Наталия как жила, так и писала, без притворства. Я думаю, Гилярову еще прочитают. Не верю я, что такое количество красоты и света вот так рассеется абсолютно в никуда.
Писатели существуют, покуда их называют по имени…









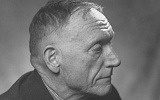
комментарии(0)