
|
|
Вычитывая рукопись, всегда надеешься, что выйдет она еще до твоей смерти... Федор Бронников. Старик за чтением письма. Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова |
Только недавно я прочел дневниковую прозу Алексеева, и с особенным чувством – записи, касающиеся издания его книги «Обычный час». Будучи ее редактором, хочу рассказать об этой, в сущности, печальной истории со счастливым – счастливым ли? – концом. Рассказать, следуя за дневником поэта.
В апреле 1984-го, побывав в издательстве «Современник», Михаил Александрович Дудин, где у него только что вышла книга новых стихов «Три круга», поспешил сообщить Алексееву, что его книгу издадут, «и даже довольно скоро – в 1988 году!». Первая запись в дневнике о московской книге – отклик на дудинский звонок: «Спасибо, гигантское спасибо издательству «Современник»! Оно дарит мне четыре года жизни! Или, по крайней мере, посмертный триумф».
Сегодня здесь слышится усталая радость, ирония и даже отчаяние. Все вместе.
В другой раз, прилетев в Ленинград из Москвы пролетом из Монреаля, Дудин вначале спросил его, «как поживает Вяльцева», а потом обнадежил: в издательстве сборник обещали издать чуть пораньше.
Ответ Алексеева: «…Анастасия Дмитриевна поживает чудесно – лежит себе в свинцовом гробу и горя не знает, что касается романа о ней, то он готов и лежит у меня на столе, такой толстый, тяжелый и внушающий уважение». Он заканчивал роман «Зеленые берега» об Анастасии Вяльцевой и время от времени «разговаривал со своей героиней» (это я вычитал в его дневнике), покоившейся в Александро-Невской лавре, глядя на серебристую фотографию грустной певицы, единственную стоявшую на его аккуратно пустом, совсем небольшом письменном столе у окна. Я увидел ее, оказавшись у Геннадия Ивановича, и спросил, кто это…
Каждый раз по возвращении из Москвы, бывая в ней часто, Михаил Александрович привозил благоприятные новости о неспешном продвижении алексеевской рукописи. Он деятельно покровительствовал Алексееву. Без участия Дудина его литературная судьба оказалась бы куда горше.
В другой раз добрую весть привез Глеб Горбовский. «Глеб только что из Москвы, он заходил в издательство «Современник». Там уже есть рецензия на мою книгу, хорошая, вполне положительная рецензия некоего совсем неизвестного мне литератора. Вообще моя книга пришлась издательству по душе».
Рецензентом был поэт Юрий Параев, мой в ту пору хороший знакомый, он дружил с Горбовским с ленинградской юности: познакомились в литобъединении. Тот, оказавшись в Первопрестольной, чаще всего останавливался у Параевых, живших в Староконюшенном переулке в представительном доме эпохи модерна, с монументальным лестничным маршем вдоль высоких стен просторного прямоугольного пролета. Параев писал роман о Есенине, собирал Есениану. Он и жил в квартире, куда однажды заглянул его кумир. Был страстным библиофилом, что нас и объединяло. Однажды с добродушной усмешкой и гордостью обладания продемонстрировал размашистый автограф красным карандашом на титуле книги Сергея Есенина: «Читай, дурак, учись!»
О стихах Геннадия Алексеева Параев, стихотворец совсем иного покроя, написал одобрительно, немногословно. Кстати, рекомендацию в Союз писателей Юрию Параеву давал тоже Дудин.
Заходя в редакцию по собственным делам, Михаил Александрович непременно напоминал о рукописи друга, спрашивал о ней в письмах. 15 сентября того же 1984-го писал из Гагры:
«Как там дела с Алексеевым?
Как дела с нашим однотомником? Впрочем, об этом я постараюсь узнать 24, потому что 23 прилечу в Москву и на следующий день буду в издательстве».
Однотомник – объемистое избранное с палехскими иллюстрациями – «Песни моему времени». Палешане – ивановские земляки Дудина. Но в тот день в редакции он говорил не столько о себе, сколько об Алексееве. И со мной, а главное – с начальством: лауреата, депутата и Героя Соцтруда слушали внимательно. «Там ему дали клятву, что мой сборник появится в 86‑м, – записал Алексеев. – Стало быть, через два года будут одновременно опубликованы две мои книжки. В такое счастье трудно поверить. И стало быть, необходимо дожить до 86‑го». Он понимал, чем обязан Дудину: «М.А. мне надо в ноги поклониться. Я перед ним в неоплатном долгу».
Когда я приехал в Ленинград, мы встретились на дудинской кухне, и Геннадий Иванович пригласил нас к себе.
Геннадия Алексеева я знал и раньше. То есть знал его первую книгу «На мосту», прочитанную летом 1976 года. Она запомнилась, увлекла, а теперь я захватил ее с собой. Надпись «по случаю нашего знакомства» сделана 22 октября 1984 года. В дневнике он обрисовал редактора так:
«Из Москвы приехал редактор моей книжки в «Современнике». Он моложе меня (37 лет), он тоже поэт (2 сборника стихов), он обожает Пушкина и собирает старые книги (рыскает по букинистическим магазинам). Он типичный московский человек (не любит интеллигенцию, пьет чай с сахаром вприкуску, живет в деревянной избе на самой окраине столицы и истово верит в Россию). Однако стихи мои ему приглянулись, да и картины тоже (приходил в гости и долго их разглядывал). Сказал, что книга выйдет весной 86‑го года, а иллюстрациями в ней будут репродукции с моих картин (!). Объем книги будет 5 печатных листов».
Вроде бы многое верно, но себя не узнаю. Обожал я не только Пушкина, московским человеком не был вовсе, к интеллигенции относился с пиететом. Как раз Геннадий Иванович мне представлялся ее достойнейшим и характерно петербургским образцом.
На другой день я пришел к поэту, жившему на улице Наличной. Магистраль, продутая негостеприимным октябрьским ветром взморья, показалась, несмотря на проезжую ширь, мрачной, семиэтажный дом с плоским фасадом – насупленным, подъезд – унылым. Геннадию Ивановичу, как я потом узнал, самому не нравились ни дом, ни улица, и позже, незадолго до смерти, ему удалось переехать. Следом за мной пришел Михаил Александрович. Хозяин принял нас с непривычной для меня церемонностью, в костюме и при галстуке. Дудин, уже много лет спиртного не употреблявший – запретили врачи, – побыл недолго. А наше винопитие продолжилось даже тогда, когда Геннадий Иванович пошел меня провожать: по пути мы заглянули в тихое полуподвальное кафе.
Припоминать наши разговоры не стану. Сдержанный и, казалось, всепонимающий спутник меня очаровал. Тем более после дружеской выпивки. Вечер общения с родственной душой. Не думаю, что я показался близкой ему душой. Нет, не думаю.
Только в чтении алексеевского дневника приоткрылось его тогдашнее состояние. Не первый год жить под присмотром смерти: он пережил два инфаркта. Отстаивать отдельное существование, самостояние в литературе. Даже щедрое дудинское покровительство могло поэта уязвлять. А я, в сущности, случайный знакомый, редактор, от которого автор, хочешь не хочешь, зависим. Но я благодушествовал и верхоглядствовал.
Через день или два мы вдвоем отправились в Царское Село. Когда подошли к Витебскому вокзалу, Геннадий Иванович напомнил: на этих ступенях умер Иннокентий Анненский.
Анненский умер от инфаркта 54-х лет. Заслужил посмертный триумф. Алексеев ожидал похожей смерти. Хотя в дневнике об Анненском отозвался строго. Даже, по-моему, чересчур строго: «…умен, талантлив, благороден. Но он не из породы творцов, а из породы интерпретаторов». Перекличка их судеб не может не броситься в глаза: первые книги изданы, когда поэтам за 40, оба всю жизнь служили, оба гордо и достойно переживали литературное одиночество. Алексеев прожил те же 54 года.
Октябрьский день оказался редкостно солнечным, медвяно-голубым. Мой водитель по царскосельским аллеям был замечательно сведущ. Этот день он описал так: «Теплый, тихий, печальный день зрелой осени. Пустынные аллеи парков Павловска и Царского Села. Несметное количество уток на пруду у Камероновой галереи. Веселые сытые белки прыгают над деревьями. Статуи уже спрятаны в деревянные ящики».
Уже в Москве я получил открытку с царскосельскими видами:
«Вот Вам, дорогой Борис Николаевич, прекрасное Царское Село, в котором мы с Вами только что побывали. Надеюсь, что Ваша поездка в Петрозаводск вполне удалась. Надеюсь, что и в Кижах Вы побывали. Надеюсь, что дождь Вам не помешал, и все было чудесно.
Посылаю требующиеся бумаги. Если еще что-нибудь понадобится – звоните. Мне приятно было познакомиться и общаться с Вами.
Ваш Г. Алексеев 28.10.84».
В Петрозаводске я побывал, в Кижи сплавал. Погода с утра благоприятствовала, но на обратном пути поднялся и стал крепчать онежский ветер. Мчавшийся катер так подпрыгивал на взрытых волнах, что двух рослых розовощеких финнов стало выворачивать наизнанку. А у пристани встретил дождь, перемежавшийся с колючим снегом, налетавшим со студеными порывами ветра. И если впечатление от Царского Села оказалось освещено не только шелестом золотившихся аллей, но и разговорами с Алексеевым, то от петрозаводских дней остались исчерна-серебристые купола Кижей и крутые онежские волны.
В 1985-м я занимался составлением тома забытой Евдокии Ростопчиной. Поэтесса писала: «Вы вспомните меня когда-нибудь… но поздно…» Писала она и о цыганских песнях «Про страсть, про ревность, про любовь…», какие в начале века певала Анастасия Вяльцева, героиня романа Геннадия Алексеева. Я попросил его скопировать автобиографическую записку Ростопчиной. Из дневника узнал и сколько трудов это ему стоило, и как связались у него два знаменитых некогда женских имени:
«…стал я Настю немного забывать. И вдруг…
Редактор мой московский просил меня узнать, есть ли в Публичной библиотеке автобиографические записки графини Растопчиной (намерен о ней он что‑то написать). Сегодня поехал в город, явился в Публичку, пришел в отдел рукописей и обратился к дежурной, разъяснив, что мне требуется, на дежурную, однако, не глядя, а глядя вниз, в стол, за которым она сидела. Очень милым интеллигентным голосом дежурная сказала мне, что рукописи выдаются только по предъявлении официальной бумаги с места службы Тут я поднял голову – и будто электрический ток пробежал, как написали бы во времена той же Растопчиной, по всем моим членам.
Предо мною сидела Настя! Тот же чистый светлый лоб! Те же дуги высоких бровей! Те же серые, широко расставленные глаза! И даже прическа почти такая же! И даже кофточка…
Выходя из здания библиотеки, я сказал себе: «Попробуй забудь ее! Черта с два ее позабудешь! Она теперь со мною до гробовой доски!» И еще я подумал: «Кабы не московский редактор… А ведь шел я в Публичку с неохотой, по обязанности! Всё шалости судьбы, на выдумки неистощимой». А после я сказал себе: «Для этого редактора я сделаю все!»
Рукопись книги Алексеева отправилась в набор 7 апреля 1986 года. Понедельник – присутственный день в редакции. Кажется, в этот день и приехал Геннадий Иванович для последних формальностей. В дневнике он описал муторную дорогу в издательство, поиски на новозастроенном продутом Хорошевском шоссе, хождения «по дьявольски скользкому тротуару» и – с ироническим блеском – встречу в редакции.
«Мой редактор приветливо пожимает мне руку. И сразу же неприятности. Оформление книги еще не готово. Судя по всему, за него еще и не принимались. Начальство мою книгу еще не видало, и неизвестно, как оно к ней отнесется. Книга выйдет из печати не весной, как предполагалось, а в конце года. Увеличить объем книги не удается, и надо сокращать рукопись.
Садимся с редактором за стол и начинаем сокращать. Быстро сократили. Споров не возникало.
– Подсчитайте, сколько осталось строк, – говорит мне редактор. Сижу считаю.
В комнату редакции входит некий довольно молодой, веселый, уверенный в себе человек. С моим редактором он на «ты». Через несколько минут выясняется, что он поэт и намерен опубликовать в «Современнике» свою шестую книгу, для чего ему нужно подать заявку. Она у него не получается. Мой редактор и его помощница – простоватого вида женщина лет сорока ему помогают.
– Стихи объединяет тема родной отчизны, – читает вслух веселый поэт, – тема любви к русской девушке, к русской природе, к простым трудолюбивым русским людям.
– Если в слове «объединяет» убрать букву «ъ», то получится совсем другое слово, – ехидничает мой редактор».
Опытные московские стихотворцы всех знали, бойко заскакивали во все редакции. Читая в алексеевском изложении разговор редактора с поэтом, собравшимся издавать шестую книгу, я почему-то вспомнил боевитого Владимира Шленского (а может быть, это был и не Шленский), в тот год выпустившего сразу две книги: в нашем издательстве «Снегири на антеннах», в другом – «Скворец на асфальте». Совсем недавно получивший орден Почета, он весело и гордо возмущался: «Некоторые завидуют, что мне орден дали… Пусть бы они на БАМ столько раз съездили, сколько я…» Летал он и в Афганистан. Через несколько месяцев в писательской поездке 40-летний Шленский умер от инфаркта.
Встреча автора с редактором закончилась так:
«Строки моей книжки сосчитаны. Редактор ставит на первой странице штамп, расписывается в нем и предлагает расписаться мне. Расписываюсь. Рукопись готова для сдачи в производство.
– А как же оформление? – недоумеваю я.
– Ничего, сделают оформление. Не беспокойтесь, – хладнокровно отвечает редактор. – Без оформления не останется.
– Но мне будет трудно выбраться в Москву в ближайшее время! – продолжаю я беспокоиться.
– А вам и не надо будет выбираться, – говорит редактор. – Пришлем вам корректуру на подпись, тогда и увидите оформление.
«Как все у них просто!» – думаю я с восхищением и с опаской».
Опаска Геннадия Ивановича оправдалась.
«Позвонил в Москву. Редактор Романов сказал, что начальство подписало мою книгу к печати, но изъяло из нее с десяток стихотворений. Стал жертвой и многострадальный «Сергий». Его уже несколько раз выбрасывали из книг и журнальных подборок. Жалко «Сергия».
У меня сохранились машинописные листки некоторых изъятых стихотворений: «Руки Пилата», «Встреча с Лохвицкой», «Рождение Венеры», «Ночной визит», «Бабочка»… Начальство в те времена не допускало намеков на религиозные или мистические темы, и не только.
Наконец, «Обычный час» вышел. Открывало его небольшое предисловие Дудина. Он писал (12 сентября 1986):
«Дорогой Борис Николаевич!
Прежде всего получи от меня большое спасибо за прекрасное издание Алексеева Геннадия книги – она прекрасна и по содержанию, и по оформлению, и по самому доверию редактора к Судьбе Поэта и художника».
Еще он просил, сообщив, что уезжает с женой в Гагру, прислать ему туда экземпляр книги Алексеева: «Получишь еще одну благодарность от меня за доставленное мне большое и светлое удовольствие».
В дневнике Геннадий Иванович о выходе «Обычного часа» написал:
«Держу в руках московскую книжку. Наконец‑то! Мысленно кричу «ура» – вслух кричать как‑то неловко.
Довольно толстый и довольно симпатичный томик. На обложке – мой «Белый пароход». Приятный формат, хорошая бумага. Отличный шрифт. Правда, репродукции не все удались, но и в таком качестве они недурны. Сто тридцать два стихотворения. Сорок три ранее не публиковались. Некоторые из них неоднократно отвергались журналами и Ленинградским отделением «Совписа». Нет, по этому поводу можно не стесняясь во все горло крикнуть «ура!».
Эта запись, прочитанная через несколько десятков лет, дорогая награда за, в общем-то, невеликий и радовавший труд. 9 декабря 1986 года он подарил мне сразу две своих книги – «третью книгу стихов» «Пригородный пейзаж» и «Обычный час», с надписью: «Борису Николаевичу Романову с искренним расположением и признательностью».
Заканчивалась его последняя прижизненная книга стихотворением о расставаниях:
Как грустно
уезжать и провожать!
Как горько
покидать и оставаться!
Мы виделись накоротке и в последний раз. Через три месяца он умер. Третий инфаркт.
В июле 1992-го я получил от Дудина первую посмертную книгу Геннадия Алексеева «Я и город» – «в память о нашем милом друге, к судьбе которого мы были причастны». Кроме этой надписи на полях одной из ее страниц он оставил свой рисунок – оранжевое яблоко с двумя листьями. Поминальное яблоко. Мы давно не виделись, и, наверно, поэтому Михаил Александрович перешел на «вы»:
«Посылаю Вам с этим письмом вышедшую книгу Геннадия Алексеева. Вам, наверное, интересно ее будет посмотреть. Ведь Вы любили его, как мне кажется, искренно и глубоко».







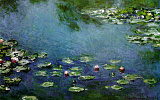


комментарии(0)