 Андрей Белый плясал до изнеможения. Анри де Тулуз-Лотрек. Танец в «Мулен Руж»: Ла Гулю и Валентин Бескостный. 1895. Музей д’Орсe
Андрей Белый плясал до изнеможения. Анри де Тулуз-Лотрек. Танец в «Мулен Руж»: Ла Гулю и Валентин Бескостный. 1895. Музей д’Орсe
– Зачем
Этот ад?
Андрей Белый
Мало мест на земле, о которых могу сказать: там я был. Намного больше тех, где и был, и не был.
В Цоссене, обозначенном под стихами Андрея Белого, упоминаемом в воспоминаниях о нем, я именно и был, и не был. Хотя два армейских года провел в соседнем Вюнсдорфе, откуда до Цоссена легко дойти. Расстояние – пять километров. Сейчас это пригород или часть Цоссена.
В Вюнсдорфе перед Первой мировой размещались пехотинцы кайзера, потом танкисты Гудериана, а после 1945-го – штаб Группы советских войск в Германии. Я служил в батальоне охраны штаба, через забор от части в яблоневом саду с побеленными стволами и клумбами стоял особняк главкома маршала Кошевого. Через годы о Вюнсдорфе мы повспоминали с маршальским внуком – Петром Паламарчуком, автором «Сорока сороков». Тот рассказывал о каникулах у деда.
Прямоугольные штабные здания бледно-кофейного цвета, стальной голубизны чешуйки брусчатки, бетонные боксы, посты, где стоял в нарядах, сонные караулки с дощатыми лежаками. Четырехэтажные казармы с двухъярусными койками. Многое уцелело от довоенных и военных лет.
В одноэтажном Цоссене – та же черепица кровель, скучные прямоугольники планировки. В 1920-х здесь жили и русские, надеявшиеся переждать большевистский режим.
Но первоначально Андрей Белый собирался не в Цоссен, а именно в Вюнсдорф. После нескольких месяцев в Берлине, в письме матери, назвав тамошнюю жизнь ужасной суетой – «люди рвут на части», он сообщил, что собирается перебраться «в Вюнсдорф (час езды, в деревню), чтобы обосноваться там…». Добавил: «Буду там жить с хорошими знакомыми; и много писать».
В воспоминаниях Марины Цветаевой мерещится мелькнувший и передо мной Цоссен: плоское место с пустыми полями вдоль шоссе, по которым бегал измученный, называющий себя «пропащим человеком» поэт. Видится одиноко стоявший на скучной обочине магазинчик, торговавший красками, куда я заходил, под выгоревшей черепицей, пережившей Третий рейх. Может быть, это унылое «белое шоссе» и переходила навестившая поэта Цветаева с десятилетней дочкой.
Тогда я, двадцатилетний солдат, об Андрее Белом мало что знал. Не представлял, что русский символист мог проживать в захолустном Цоссене. Но название, перекликающееся с соснами (может быть, с SOS?), не забыл. Поэт жил там не меньше двух месяцев. «Около 5 мая – Цоссен», – записал он под 1922 годом, пометив, что уехал оттуда в начале июля. Бежав из Берлина, названного им «секцией черного интернационала», Белый искал отдохновения. Через полторы недели он пишет из Цоссена критику Евгению Ляцкому в Прагу, что попал в сырую комнату, тотчас простудился, переутомился, работая по 12 часов в день над воспоминаниями о Блоке, «схватил сердечные припадки» и «дошел в нервном отношении почти до чертиков». Никакого роздыха не получилось.
В берлинских письмах Владислав Ходасевич писал о жизни Андрея Белого: «Это – ужас», а в воспоминаниях поведал о его местопребывании: в Цоссене «недалеко от кладбища, в доме какого-то гробовщика». Белый, считая Цоссен поселком «гробовщиков», жаловался, что его «обстали гробы». Все же его соседями по дому были не гробовщики, а наборщики тамошней типографии, о чем он сообщает в книге «Одна из обителей царства теней» о берлинской жизни, многажды названной «тяжелым кошмаром».
«Барак, а не дом. Между насестом и будкой» – так описано цоссенское жилье Белого Цветаевой. Фото дома – куб, накрытый треугольным чердаком, с прилепившимся с левого торца крыльцом, запомнившимся Цветаевой с вышедшим ее встречать поэтом. Под черепичной крышей, в треугольнике фронтона над крыльцом – темное окно мансардного этажа, откуда он выкрикивал сочинявшиеся стихи в форточку. Окно закрыто ставнями. Но форточка в нем, очевидно, имелась. Цоссенское стихотворение Белого «Маленький балаган на маленькой планете «Земля» в книге «Стихотворения» (Берлин, 1923) начинается с ремарки: «Выкрикивается в форточку без перерыва…»
Такие же дома и домики мелькали и на окраинах штабного Вюнсдорфа.
У Александра Бахраха, навещавшего Белого в Цоссене, от пейзажа осталось такое же впечатление «унылости и казарменности». Однако цветаевское изображение прикладбищенского дома и поэтовой комнатушки он счел чересчур импрессионистическим и грешащим литературщиной.
Бахраху Белый говорил о цоссенском житье, что там «в уединении никто ему не мешает и он исписывает чуть ли не по печатному листу в день». Бахраху было 20 лет, еще и поэтому цветаевские впечатления показалось ему написанными «в трагических, сильно сгущенных красках». Но многие, кто рассказывал о метаниях поэта по немецким улицам, пивным и кафе, исступленном танцевании фокстротов и шимми, замечали его истерзанность. Еще в начале года Белый писал Иванову-Разумнику: «Сердце сжимается болью: у меня трагедия: Ася ушла от меня; Штейнер разочаровывает ни в чем нет успокоения. Нервы расстроились…»
Встретившийся с Белым, когда тот уже готовился покинуть Цоссен, собираясь к морю («гонят доктора»), Ходасевич увидел поэта совсем седым, с блеклыми глазами, недавно еще ярко-голубыми, и разглядел в них ужас. Не Арзамасский, настигший Льва Толстого, – цоссенский или берлинский. О нем Белый писал: «…в 1922 году воскликнулось: за что терзают меня? Я бегал в цоссенских полях, переживая муки, которым не было ни образа, ни названия…»
«Обставленный гробами», смертной тоской, гнавшей из одиночества, от цоссенских полей Белый бросался в берлинскую сутолоку, в хлыстовскую тряску под вездесущий фокстрот. Фокстрот был в моде. Ходасевич назвал пресловутые танцы Белого «кощунством» над собой. О его пьяных танцах говорили и писали русские в Берлине, о них судачили в России, их удивленно или усмешливо описывали мемуаристы. Но сам Белый уверял, что «с бешенством много часов в день» «зажаривает» фокстрот по совету невропатолога «для физкультуры». Но это и участие в воображаемой берлинской фантасмагории, даже мистерии. Михаил Осоргин, поживший с ним в пансионе Крампе, считал, что Белый «не просто танцевал – он и в недостойном кошмаре продолжал искать религию». Хотя позднее, в московской оглядке, поэт представляет себя не столько участником, сколько обозревателем «ночной жизни» германской столицы, «битком набитых народных плясулен», где пляшут все, «вернее не пляшут: священнейше ходят, через душу свою пропуская дичайшие негритянские ритмы». А затем «по улицам мрачного, буро-серого города валят толпы фокстротопоклонников, фокстротопоклонниц; и медленно растворяются в полуосвещенных улицах Берлина; и делается на сердце уныло и жутко; тогда из складок теней начинает мелькать по Берлину таинственный теневой человечек, с котелком», похожий на песьеголового человека древних фресок Египта, сопровождающего усопших в царство теней…
Это описание пережитого ужаса, становящегося мифом. Ужаса мистического. В нем мелькнуло и давнее видение Белого из 2-й драматической «Симфонии» (1901) красногубого негра – «грядущего владыки мира».
Можно сравнить эти картины буро-серого города с демоническими городами, населенными игвами, на «изнанке мира» Даниила Андреева, увидевшего свет в Берлине, а выросшего в арбатской Москве Андрея Белого: «…там в этих городах, бушует и музыка, преимущественно шумовая, для нашего уха звучащая какофонией, но иногда поднимающаяся до таких ритмических конструкций, которые способны заворожить и некоторых из нас. Еще большую роль в жизни игв играет танец, если допустимо применение этого слова к их безобразным вакханалиям. И их демонослужения, сочетающие поразительные световые эффекты, оглушительное звучание исполинских инструментов и экстатический пляс-полет в пространстве четырех координат, превращаются в массовые беснования: этим привлекаются ангелы мрака…»
Цоссен стал эпицентром мучений Андрея Белого в демонизированном берлинском «царстве теней». В стихах, в его прозе тех дней судорожные ритмы, песенные выкрики. Ритм, торопящийся, не жалеющий слов и подробностей, нервный и захватывающий, «ритм как диалектика», нервный поиск мелодий, подчеркиваемый прихотливой графикой строк. Ужас вытеснялся писанием. Многописанием. Чем отчаянней становились настроения, тем судорожней Белый зарывался в работу. Современники его сумасшедшей работоспособности удивлялись.
Написана статья «Антропософия и Россия», пишутся обширные «Воспоминания о Блоке» (под их главами: «Май – июнь. Цоссен – Свинемюнде»), «рецензии и фельетон (в газеты)». Тогда же он участвует в диспуте «О конструктивизме», обсуждает (в Берлинском доме искусств) тему «Смены вех», делает (по-немецки) доклад «Антропософия и культура».
Об июне записано: «Окончательно замыкаюсь в Цоссене; никого не вижу». Но – тогда же – «в 20-х числах ужасная встреча с Асей, после которой пью…».
Ходасевич позже интересовавшемуся, как чувствует себя, Борису Николаевичу Гершензону отвечал (14 ноября 1922): «Чувствует он себя очень плохо. Вы, вероятно, знаете безобразную и безвкусную историю его жены с Кусиковым (sic!), – какую-то жестокую и истерическую месть ее – за что? одному Богу это ведомо толком. Белый очень страдал и страдает. Прибавьте к этому расхождение если не с антропософией, то со Штейнером – и Вы поймете, как плохо бедному Б.Н. Он много пил и пьет».
Слухи «про Асин mezalliance», как назвала тетка Блока уход Аси Тургеневой к Александру Кусикову, ходили по Москве и Петрограду, и тем более в Берлине, где она, как свидетельствовал Бахрах, оскорбительно для Белого афишировала «свою связь с имажинистским поэтом». Писал об этих «трудных днях» Белого и ровесник Бахраха – Вадим Андреев. Говоря о беспомощности поэта, о том, что тот «невольно вызывал жалость к себе», он не без театральности определил: «Берлинская ночь сгущалась над ним».
В письме (24 июня 1922) Белый пишет Цветаевой из Цоссена о главном, ища спасительного отклика: «Я окончательно поставил крест над Асей: всею душой моей оттолкнулся навсегда от нее. И мне показалось, что вырвал с Асей свое сердце; и с сердцем всего себя ; и так я с утра до вечера ходил по Берлину, не зная где приткнуться с чувством, что 12 лет жизни оторваны…»
Цветаева, казалось, помогала ему вытеснить ужас «солнечной силой», которую Белый ощутил в ней, в ее новой книге «Разлука». Совсем небольшой – восемь стихотворений и поэма.
Цветаева с дочерью Алей прибыла в Берлин 15 мая. На другой день Белый прочел в Цоссене «Разлуку» и тут же отозвался: «Я весь вечер читаю – почти вслух; и – почти распеваю». За письмом последовала рецензия в «Голосе России» – «Поэтесса-певица». Затем явилась книга стихов «После разлуки» с подзаголовком: «Берлинский песенник», «инспирированная» Цветаевой («она ваша, из вас» – писал ей Белый), «единым махом» написанная и сложенная. В книге (ее составили 15 стихотворений) Цоссеном помечены семь, еще под тремя – Москва и Цоссен, под двумя ни места, ни даты, но в других редакциях указано – 1922, Цоссен. Пейзаж в них русский или вселенский, настроение отчаянное, цоссенское. Весь цикл так или иначе обращен к Асе, об Асе. Она нелегко «вырывалась из сердца». Цикл определен как музыкальный, начиная с подзаголовка и предисловия «Будем искать мелодии». Этот поиск подчеркивали строфика, разбивка строк.
Все писавшееся Белым, и поэзия, и проза, пронизаны музыкальной стихией, вытекают из нее. Поэт говорил о своем начале: это были «попытки иллюстрировать юношеские музыкальные композиции». А в статье 1902 года «Формы искусства» рассуждал о захватывающем действии музыки, о том, что она указывает «путь искусству в его целом». С обсуждения этой статьи началась их переписка с Блоком. Эта «музыкальная» ориентация наглядна в цикле и подчеркнута в заключительном обращении к Марине Цветаевой:
Ваши молитвы –
Малиновые мелодии
И –
Непобедимые ритмы.
(В другой редакции: «Непобедимые / малиновые мелодии» и «Зримые / Ритмы…»)
Декларируемое инструментальное сопровождение означает не только значимость звука в цикле «После разлуки» и подтверждение тезиса предисловия: «В чистой лирике мелодия важнее образа». Многие образы здесь – знаки, указательные стрелки, связывающие несколько стихотворений, обращенных к Асе Тургеневой, предыдущей книги «Звезда» с новыми стихами. Они, как и «фокстрот», и «Берлин», как встречи и разрывы, сопряжены у Белого с мифом судьбы, с ее мелодиями и ритмами. Но музыкальные ремарки к стихам чаще всего отсылают к общему прошлому с Асей, начиная со счастливого путешествия по Средиземноморью, в которое они пустились в конце 1910 года.

|
|
Ночной Берлин стал для раненого поэта кошмаром. Лессер Ури. Берлинская уличная сцена (Лейпциг-штрассе). 1889. Берлинская галерея |
Цветаева писала о поездке с ним в Шарлоттенбург, берлинский район, где на каждом шагу встречались русские. Тут она увидела Белого «в родной и страшной его стихии», в полете: «Восхитительная (от земли восхищающая) ночная поездка…» Похоже, что и это катание – попытка развеять на уличном скоростном ветру ужас, оторваться от него. Нина Берберова вспоминала, что ей, как и Ходасевичу, Белый тогда казался насмерть раненым зверем.
Цветаева воспроизводит горячечное объяснение Асиной измены Белым: «Это – месть» За что? «За Сицилию. За «Офейру». «Я вам больше не жена». – Но – прочтите мою книгу! Где же я говорю, что она мне жена?». Но «Офейра» как раз начинается с фразы: «Мы с женой улыбаемся: Ася в коричневом легком пальто, в какой-то странно заломленной шляпе дымит папироской…» Не помнит собственного текста Белый? Путает Цветаева?
«Офейра» – книга путевых заметок. Странствие по Италии, Сицилии – Палермо, Монреаль, потом Тунис – пребывание в Радесе, и далее – Каир, Иерусалим… Начало совместной жизни с «невенчанной женой», c уверением: «Единственной книгою будешь мне ты» – говорю я жене…»
В начале второй главы «Офейры» – «…струнные звуки немых мандолин, изрыдавшихся страстью…» . Там же говорится о веянье «легких вёсен». И «После разлуки» начинается «Весенней мелодией» с подзаголовком «Мандолина». Здесь же перекличка со стихами книги «Звезда». В ней, в стихотворении «Шутка» (Дорнах, 1915), в одном из автографов, посвященном Тургеневым, также звучит мандолина: «Перед / Вами / Я, – // Старый / Дурак, – // Игрывал / На /Мандолине».
В другом стихотворении – «О полярном покое» – «говорит виолончель». Мы можем, пусть гипотетически, объяснить включение в цикл стихотворения «О полярном покое» (в прежней редакции «Жизнь») не только восприятием чужих ночей, как предвестий «полярной тьмы», но и отзвуком декабря 1919-го, когда «вода мерзла в доме», а от Аси пришло письмо с фразой «об ужасах» совместной с ним жизни. Эти ранящие слова откликались в цоссенском ужасе. А «Кладбище» прямо навеяно «кладбищенским» поселком, хотя и оно вариация давнего стихотворения, где речь шла о московском кладбище.
Можно спорить о поэтическом результате переоркестровки прежних стихов, что Белый делал неоднократно. Но здесь, кроме прочего, существенны подтексты, связывающие две жизненные эпохи.
После виолончели в пятом и шестом стихотворениях цоссенского цикла вступает гитара: «Поется под гитару» и «Опять гитара». Они перекликаются со стихотворением «Асе» (июнь 1917), с его строками: «Сицилия… И – страстные гитары… / Палермо, Монреаль… Радес… / Люблю!..» На них Ася (в декабре 1917-го) отреагировала так: «Милый, стихи хороши, но не несуществовавших гитар я люблю в Монреале. Они их портят». То, что звучало для Белого элегически, ее, судя по всему, раздражало. Можно предположить, что строки предисловия к стихам «После Звезды» адресовались и к Асе: «…музыка пути посвящения сменилась для меня музыкой фокстрота, бостона и джимми; хороший джазбэнд предпочитаю я колоколам Парсиваля; я хотел бы в будущем писать соответствующие фокстроту стихи».
Отчаянное стихотворение «Я» – «Поется с балалайкой» – такое же выкрикивание в форточку «Из обманутого Богом / Дня…» среди «злого» цоссенского поля, из немой тьмы. Лирические обращения к Асе, перекликающиеся друг с другом, причудливые «танцы цветов, танцы слов» и берлинские фокстроты вписывались в перепадистый рельеф «линии жизни» поэта.
Книгу «После разлуки» определило, по признанию автора, «мрачное лирическое настроение». Критик Константин Мочульский писал о ней, что это «не песни, а вопли, страшный надрывный вой насмерть раненного зверя». Даря книгу другу, Петру Зайцеву, Белый сделал приписку о надежде написать в будущем «не столь безнадежную книгу». «Безнадежность» – это схватки с ужасом поэта, переживающего удары судьбы и слом истории. Поэтому инстинктивные настройки внутреннего «ритма» отзывались и в танцевальных причудах, и в стихах.
Возвращение в Россию казалось спасением, меньшим из зол. Блок погиб от отсутствия «воздуха» в «петле полицейского государства», Андрей Белый попытался примениться и выжить. Но в дневнике 1930-го писал: «Огромный ноготь раздавливает нас, как клопов щелк, щелк – Гумилев, Блок, Андрей Соболь, Сергей Есенин, Маяковский. Щелкают револьверы, разрываются сердца, вешаются, просто захиревают…»
Кажется, что цоссенский и всесветный ужас отозвался и в записанном поэтом Григорием Санниковым рассказе Белого о задуманном в 1931 году романе «Германия». Роман должен был начинаться с запавшей в него мизансцены берлинской ночи. Однажды, на окраине, он выбрел на пустынный плац с сумрачным сквериком, одиноко сел на скамейку. Плац был квадратным, к скверу примыкало квадратное бетонное сооружение писсуара, а в нем, чиркнув спичкой, он увидел шеренгу стоящих к нему черными спинами неподвижных господ в котелках… И кинулся обратно, в сквер. А из сооружения никто так и не вышел.
Эпизод похож на кошмар, привидевшийся задремавшему на скамейке нетрезвому поэту. Кошмар цоссенский или берлинский, символическое видение коричневой, черно-красной Германии. Он явно связан с мистическим ужасом, описанным в книге «Одна из обителей в царстве теней».
Подобное же впечатление от Цоссена у Марины Цветаевой: все в черном, все мужчины в цилиндрах, плоское, казарменное место и призраки кладбища. Вещий сон о завтрашнем дне, о «Бедламе нелюдей».








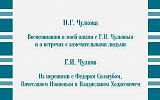
комментарии(0)