
|
|
Вольфрам Айленбергер. Пламя свободы. Свет философии в темные времена. 1933–1943 / Пер. с нем. Виталия Серова. – М.: Ad Marginem Press, 2025. – 360 с. |
Книга написана с большим воодушевлением и энергией. Здесь в большей степени, чем в предыдущей, ощутима авторская вовлеченность в жизнь героинь. Может быть, дело в том, что посвящена она женщинам, чьи порой парадоксальные эмоции и поступки нуждаются в такой вовлеченности. Это не философский трактат для знатоков и специалистов и даже не «философский» роман, как правило, суховатый и безжизненный. Это, если угодно, самый настоящий роман со сложными судьбами, глубокими переживаниями, любовью героинь на фоне трагических военных событий, влияющих не только на их географические перемещения, но и на характер их философствования. Перед нами некая мозаика жизни всех четырех, сложенная из коротких отрезков избранного десятилетия. Причем первая глава («Искры») описывает финальный этап романного странствования. А также и поворотный момент войны – 1943 год. Иными словами, начинается роман с конца. Этим же годом он и заканчивается (последняя глава «Пламя»). Как видим, знакомая всем нам с советских времен фраза об искре, из которой… ну, дальше всем известно, нашла свое романное воплощение. Итак, творческое пламя «возгорелось», а свет? И вот тут у меня снова возникают сомнения по поводу названия. Правильно ли книжка названа? Любая ли философия, даже самая свободная и пламенная, несет с собой свет? Свет – ведь метафора человечности, надежды и любви, чудесного выхода из темного пространства, солнечного восхода, разве нет? Как там у Пушкина: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» Но все ли героини книги своей философией несут этот свет?
В сущности, автор рассматривает отношения «Я» с «Другими» в жизни и философии героинь. И в этом у них большие расхождения. В последней главе Бовуар и Рэнд – «на седьмом небе», достигают наконец искомого жизненного успеха и общественного признания, их романы. в которых они выразили свою философию, наконец напечатаны и одобрены публикой. У Бовуар есть Сартр, а у Рэнд муж – неудачливый актер, подкаблучник, как в России выражаются, что ее вполне устраивает. Арендт в это время в смятении, с трудом приживается в Америке, в которую ей пришлось бежать из французского лагеря для немецких эмигрантов-евреев («смотрит в бездну»). Но с ней произошло самое важное. Она нашла наконец «большую любовь» – немецкого коммуниста Генриха Блюхера и самоопределилась – отыскала «свое племя». Еще в Германии во время работы над книгой о писательнице Рахели Фарнхаген, жене немецкого писателя конца XVIII – начала XIX века, она кое-что поняла и о себе. Рахель в конце жизни пришла к выводу, что то, что она считала своим позором, по сути, в антисемитском окружении, ее принадлежность к евреям, «париям» – нечто необычайно важное в ее самоидентификации. В грозную для евреев пору это же произошло с ученицей Ясперса Арендт, которая во Франции стала заниматься уже не чисто философскими проблемами, а спасением европейских евреев. О никому не нужных беженцах из Германии и ее эссе той поры. Лучшие ее философские работы, посвященные тоталитаризму и гуманистической традиции, были еще впереди (например, «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме», 1963).
И наиболее печально все сложилось к 1943 году у Вейль, которая совсем молодой умирает в лондонском санатории, добровольно отказавшись от еды, – по автору, «переступает последний порог». Из Америки, куда она бежала с родителями из дорогой для нее Франции, она чудом, на грузовом судне прорвалась в Англию к де Голлю, чтобы тот дал ей военное задание на оккупированной немцами родине. Она жаждет подвига. Но тот принял эту маленькую, хрупкую женщину за сумасшедшую. Да, ее поступки порой ставили в тупик и заканчивались трагикомично. Но она, судя по всему, была из породы французских католических подвижниц типа Орлеанской девы. Для страдающих и угнетенных она готова была жертвовать собой. И недаром в предсмертных записях она сравнивает себя с шекспировскими шутами, говорящими правду властителям. Ее философские построения порой вызывают у меня желание поспорить. Но в поздних записях ей уже не важен ни острый ум, ни огромная эрудиция, ни философский дискурс. Только человечность. «Интересуюсь человечностью», – ее ответ на вопрос английского врача, кто она. В России таких называли юродивыми, что было признаком особой «божественной» призванности.
Мне кажется, что именно эти две женщины – Арендт и Вейль – несут «свет философии в темные времена». Выражение «темные времена» восходит к стихотворению Брехта, обращенному к потомкам. Его, кстати, использовала и сама Аренд для сборника эссе «Люди в темные времена» (1968). Для Бовуар и для Рэнд эти «темные времена» прошли почти незамеченными. Свобода творческой и жизненной самореализации была для них гораздо важнее, чем жизни «других».
В 1943 году французский суд лишил Бовуар права преподавания философии из-за жалобы матери одной из ее учениц на «развращение» дочери. Однако Бовуар плевала на все суды, ей дорога была лишь собственная «экзистенция» и отношения с Сартром – пожизненным и даже посмертным «философским спутником» (они будут похоронены в одной могиле). «Другие», как и Сартра, ее мало волновали (см. знаменитое выражение Сартра из его пьесы: «Ад – это другие»). Нет, «другие», конечно, существуют, но человек отвечает только за себя и свою экзистенциальную свободу. В годы войны они с Сартром, как пишет Айленберг, практиковали некую «экспериментальную семью», куда входили юные ученицы Бовуар и ученик Сартра и которыми они обменивались. Не знаю, как кому, но мне подобные «учителя» напоминают вурдалаков, пополняющих свою иссякающую витальность свежей молодой кровью. Бовуар вопреки войне «хочет наслаждаться каждым моментом», не рискуя своей личностью, то есть не впуская в свою жизнь «другого». Они с Сартром – творцы новых, небывалых, свободных от пут традиции отношений и новой «экзистенциальной» философии. И эта оправданная новой философией «повседневная сеть из асимметричных зависимостей», даже по замечанию скупого на комментарии автора, «едва ли у многих вызовет симпатию». Автор еще не приводит воспоминаний одной из учениц Бовуар, много лет изживавшей полученную тогда душевную травму. На основании подобного опыта возникает роман Бовуар «Гостья», конечно, со многими умолчаниями. Роман получился скучновато-философским, где каждая из героинь, по выражению автора, «ведет свою войну», которая может закончиться «только полным уничтожением другого». Роман стал сенсацией. Творческое пламя разгорелось. Но свет ли это?
Так же мало волновали «другие» и Рэнд (Алису Розенбаум), которая, покинув Россию в 1926 году, где получила, между прочим, хорошее образование, и очутившись в «капиталистической» Америке, всю жизнь пламенно боролась с «большевистскими» коллективизмом и альтруизмом, незнамо как проникшими в такую «индивидуалистическую» страну. Самое важное – это личностный эгоизм, который вполне оправдан и абсолютно морален. Никакого снисхождения и социальной помощи слабым. Из этих ее идей возникает целое философское направление – «объективизм». Она пишет не только философские эссе, но и пьесы и даже романы. Но романы довольно условные, где ее «правильные» мысли герои, эти ницшеанского типа «сверхчеловеки», часто излагают прямым текстом. Коллизии весьма абстрактны и напоминают то, что Тургенев называл обратным общим местом. Доведенный до предела и воспеваемый автором «эгоизм» сталкивается со столь же примитивным «коллективизмом. Айленбергер, судя по всему, видит в этом авторскую «свободу», но мне представляется, что подобного рода философия едва ли поможет человечеству во времена его полного расчеловечивания. В романе «Источник», одном из двух ее бестселлеров, герой – гениальный архитектор, взрывает динамитом почти готовый социальный дом, построенный по его проекту. Его судят судом присяжных, но он пространной речью убеждает их в своей правоте. Вынесен парадоксальный вердикт: невиновен. Он действовал, исходя из законов страны, гарантирующих права на личную и авторскую свободу. А какой-то общественный комитет во главе с заурядным человечишкой-чиновником, посмел слегка подправить его проект. Все это громко и абстрактно. Мне вспомнился недавно показанный по телевизору блистательно поставленный Анатолием Эфросом телеспектакль по пьесе Александра Корнейчука «Платон Кречет» (1934), где героя-врача не менее блистательно сыграл Николай Волков. Тут сходная коллизия вписана в реальный человеческий контекст. Платону дают на отзыв смелый и амбициозный проект санатория, выполненный талантливым молодым архитектором. Платон, кстати, увидев эту даму, сразу в нее влюбляется. Но еще перед этим он находит в проекте целый ряд недостатков, связанных с медицинским назначением здания. Архитектура ведь предназначена для людей («других»), а не исключительно для самовыражения творческих личностей.
В этой связи мне кажется необычайно важной фраза, которую приводит Айленбергер, цитируя работу Ханны Арендт из книги о Рахели Фарнхаген. Древнееврейский мудрец Гиллель выразился об отдельной личности и других людях так: «Если не я для себя, то кто для меня? Но если я только для себя – что я?» Мне кажется, тут предельно ясно выражена диалектика взаимоотношений человека с окружающими.
А где свет философии – решать читателю этой талантливой книги.




























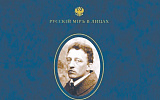
комментарии(0)