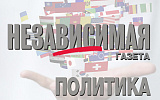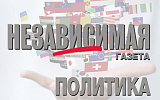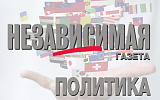Сергей Кириенко: "Если закон будет соблюден - мы победим!"
Сергей Кириенко: "Если закон будет соблюден - мы победим!"
- СЕРГЕЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ, президентские полпреды - кто они? Откровенно говоря, из первых бесед с вашими коллегами было видно, что четкого представления о себе у них нет. Теперь по прошествии 4 месяцев кое-какое впечатление о представителях складывается, но с трудом. Одни считают себя управленцами, другие - политиками. Вы среди них - единственный профессиональный политик. И, кроме того, - замыкающий в серии интервью полпредов "Независимой газете". Не могли бы вы подытожить за всех - в кого же все-таки произрастают полпреды?
- Не соглашусь, что с самого начала полпреды ничего про себя не знали и двигались на ощупь. Но соглашусь с тем, что хорошо понятен был только первый шаг. Обязательная программа была определена сразу. Помните, президент в ходе предвыборной кампании сказал, что нам нужна инвентаризация страны? Первое, что мне было абсолютно понятно и подтверждено президентом в момент приглашения на работу, - это то, что полпреды - инструмент этой инвентаризации. Вам как представителю школы экономгеографов это понятно лучше, чем мне тогда. Для меня как экономиста и технаря по базовому образованию инвентаризация ассоциировалась со станками, заводами, природными ресурсами, производительными силами, производственными отношениями и так далее. Сегодня я понимаю, что для нас гораздо важнее инвентаризация человеческого капитала, уровня образования, инновационных школ, культурного наследия.
Кстати, я поражен результатами экспедиции, которую мы провели в нашем округе. За лето пройдено 65 населенных пунктов, расположенных на "стыках" субъектов Федерации. Что, например, мы выяснили, конечно, есть отличия между успешными и проблемными регионами, но куда гораздо большие различия - внутри регионов.
Кстати, 24-25 октября в Самаре совместно с экспертами Европейского союза мы проводим заседание комиссии по пространственному развитию.
- Чем объясняется ваше особое внимание пространственному анализу? Это ваш личный интерес или он позволяет решить некие специфические задачи?
- Это важный способ инвентаризации страны. В отличие от социально-экономического анализа пространственный дает совершенно другой взгляд.
- И все-таки, какую главную задачу вы решаете с помощью этого инструмента?
- Проблема в том, что система власти не соответствует вызовам времени. Чем управляет федеральная власть? Трансфертами и субсидиями, которые регулируются в зависимости от бюджетной обеспеченности. Но это ни о чем не говорит. 5000 рублей, потраченные на человека в Нижнем Новгороде и в каком-нибудь малом городе, - это разные деньги. И дело даже не в ценах рынка, а в доступе к услугам, к ресурсам развития. Если там нет газа, если туда нет автомобильной дороги, если там нет учебных заведений, то никакой бюджетной обеспеченностью ситуацию не выравнять.
- Что входит в обязательную программу? И сколь разнятся интересы, задачи и обязанности полпредов?
- Что является общим. Первое - инвентаризация страны. Второе - восстановление федеральной вертикали управления. Третья обязательная задача - приведение в соответствие законодательства. По сути, это означает формирование единого правового и экономического пространства.
Все это никоим образом не нарушает суверенитета, демократии, федерального характера государства и не означает перехода к унитарной модели. Мы говорим о восстановлении вертикали только в федеральных функциях. Не дай нам Бог влезать в зону ответственности субъекта Федерации. Да это и нецелесообразно.
- Однако общественность воспринимает это именно так. Молва приписывает полпредам огромные полномочия, каких у них и нет. Говорят, что и губернаторские выборы в связи с этим потеряли смысл - за что бороться, если вся власть перешла к президентским полпредам. Географы шутят, что речных бассейнов тоже скоро будет семь и за ними будут надзирать полпреды. Откуда такие преувеличения? Почему в сознании общества место губернатора занимает теперь полпред?
- Они не преувеличивают. Полномочия действительно достаточно большие. Долгое время был перекос, когда власти субъектов Федерации, по сути, забрали себе федеральные полномочия. Знаменитый лозунг "Берите полномочий, кто сколько сможет" был платой за сохранение целостности страны. Поэтому очень многое из того, чем в реальности пользовались власти субъектов Федерации, является прерогативой федеральной. Теперь мы это изымаем обратно. Конечно, это вызывает иногда истерику. Раньше с губернаторами согласовывали назначения всех федеральных чиновников. Теперь не согласовывают. Начинаются вопросы: "А почему ко мне прокурора или начальника налоговой полиции прислали из другого региона - у нас свои есть?" Но это - федеральная служба. Своих на свои должности и назначайте. А у нас будет ротация. Люди будут переезжать из региона в регион, что правильно, потому что они носители федеральной власти. Ключевая задача - кадровая. У полпредов прямая функция - проводить кадровую политику президента. Это означает, что ни один федеральный чиновник в округе не назначается, не повышается в должности, не получает очередного звания без ведома аппарата полпреда. Мы будем вводить резерв кадров во всех федеральных ведомствах. Это будет болезненно и конфликтно. Но иначе где возьмутся люди, в том числе для системы государственного управления?
- Давайте вернемся к задачам второго этапа. Следующий шаг будет какой?
- Пока не знаю. Если бы мы знали ответ на этот вопрос - зачем была бы нужна инвентаризация, исследования, разработка предложений стратегии, модельные эксперименты? Красиво жить хотите. Предполагаете, что где-то есть человек, который все знает? Нет такого человека.
Задачи полпредов - в поиске и реализации приоритетов. Каждый раз это могут быть отдельные приоритеты, где обеспечиваются межведомственная координация и антикризисное управление.
- И все-таки, теперь в ваши обязанности могут входить и некие хозяйственные задачи?
- Обязательно. Но вот здесь самая уязвимая точка, потому что мы - орган президентской власти. Мы - удлиненная рука президента. Только у нас в стране считают, что президент отвечает за все и должен все делать лично. Так невозможно. Президент в первую очередь отвечает за стратегию развития страны. Каждая власть должна иметь свой смысл.
- Вы доказываете, что система федеральной власти не соответствует вызовам времени. Вы имели в виду только исполнительную вертикаль, то есть систему управления "Центр-регионы" или же несовершенство разделения функций по горизонтали?
- Когда я пришел в Думу, первые полтора месяца испытывал раздражение от происходящего. Это правила, которые были разработаны в начале века в Европе и строились на том, что вся процедура выступлений, голосования, обсуждений, предусмотрена для процесса принятия решений, который обеспечивал бы взвешенность разных точек зрения, когда решения действительно принимались в зале заседаний. И каждый человек был носителем определенных взглядов, отвечающих своим избирателям. С того времени сформировалась партийно-фракционная система, в которой все фракции принимают решения накануне. Происходящее в зале заседаний не имеет никакого смысла. Потому что все фракции собрались накануне и проголосовали, как голосовать. То есть ты понимаешь, что все происходящее в зале - это спектакль. Ты готовишься к выступлению, подбираешь аргументы, но переубедить ты можешь 5-10 случайно забредших так называемых независимых депутатов. Всех остальных ты переубедить не можешь. Над ними уже довлеют фракционная дисциплина и принятое решение о голосовании. И кнопку при голосовании всякий нажимает так, как фракция уже решила до этого. Точкой принятия решений является другое время и место - заседание фракции, совет Думы, ну и узкие кулуарные встречи лидеров ключевых фракций и тех, что находятся на стыке, которые делают свой пакет голосов ключевым. Следовательно, 90% происходящего имеет характер спектакля, не имеющего содержательного смысла. После работы в бизнесе, промышленности, исполнительной власти меня это угнетало: работать-то когда будем?
Потом я понял, что это так и должно быть, потому что Дума не является органом исполнения. Критерием работы Думы не является быстрота. Критерием работы Думы является взвешенность решений. Дума - это орган, который из всего массива возможных целей обеспечивает выработку более-менее приемлемых через процедуру согласования различных точек зрения, находящихся в обществе. Их дискуссия и противоборство позволяют произвести целеполагание.
Возьмем правительство. Его задача, наоборот, - решить каждую конкретную задачу максимально быстро и эффективно, с минимальными затратами ресурсов. Действия правительства мы оцениваем по трудозатратам и скорости принятия решений.
Теперь подходим к специфике конструкции президентской власти. Президент - не просто начальник правительства. В моем понимании президент отвечает за комплексную проблему безопасности, за стратегию развития, за будущее страны.
- Полпредам делегированы именно эти полномочия? Среди политологов есть мнение, что президент отгородился от губернаторов семеркой. Вы согласны, что исполняете роль посредника?
- У полпредов своя специфика. Я думал об этом, когда принимал решение. Это так называемая вторичная легитимность. Скажем, правительство является самостоятельным органом, которому президент дает поручение. Полпреды президента не являются самостоятельными игроками. Полпред - это представитель. Это накладывает серьезные ограничения, в том числе внутренние. Ты понимаешь, что все, что бы ты ни делал, ты делаешь от имени и по поручению. Это - часть президентской власти, перенесенная ближе к регионам, что, кстати, очень правильно с точки зрения теории управления. Нельзя управлять 89 субъектами Федерации. Семью округами - теоретически можно.
- В чем цель управления округом?
- Мы должны построить стратегические модели и схемы, которые позволят собрать страну. Мы расчищаем законодательство - а, следовательно, убираем искусственные границы. Нельзя допускать ситуацию, когда из одного региона запрещают вывозить лес-кругляк, в другой ввозить "черную" водку. А таких барьеров немало. Если брать опыт объединенной Европы, то ситуацию легко описать словами: это - внутренние жестко иерархические административные регионы, каждый из которых защищает свою границу. Для того чтобы это изменить, мы должны создать интерес, который опирался бы на другие сетевые системы, которые не ограничены административной границей.
Скажем, невозможно реализовать проект транспортного коридора в одной области. А транспортный коридор "Север-Юг" даст возможность доставлять товары из Индии, Ирана и других азиатских регионов не в обход Европы, а через иранские порты на Каспии вверх по Волге, автомобильным и железнодорожным сообщением в Москву, Санкт-Петербург и в Европу.
Для нас представляют собой интерес проекты, которые стягивают, связывают между собой регионы. В Приволжском округе сосредоточено 85% российского автомобилестроения. Это не может быть проект, локализованный в одной области.
- В этих проектах какова конкретная роль полпредов?
- Проекты, которые не локализованы в одном регионе и одном ведомстве, требуют координации. Мы - единственная структура, которая имеет возможность осуществлять полную межведомственную координацию. Кроме того, анализ и выбор приоритетов, ключевых точек развития. В этом году президент определил приоритет - приведение в соответствие законодательства. Эту задачу тоже могли бы выполнять Министерство юстиции, прокуратура в режиме своей обычной работы. Но поскольку это приоритетная задача - этим занимается сам президент, который бросил институт полпредов на координацию этой работы.
Полпреды - инструмент для реализации текущей стратегии. Я, кстати, считаю, что институт полпредов - промежуточный.
- А что потом?
- Это зависит от выбранной стратегии развития страны. Не хочу определять сроки. Важно понимать другое. Институт полпредов - это не новая модель управления, а инструмент изменения модели управления. Анализ и выработка предложений по стратегии развития - одна из задач этого института. Было бы иллюзией считать, что стратегию вырабатывает один человек, - в этом участвует вся страна. Президент начал с реформы государственной власти, потому что это было неизбежно. Это было веление времени, а он его просто осуществил. Взял на себя политическую ответственность и проявил волю. Но хотело этого большинство, иначе ничего бы не получилось.
- Не играете ли вы сами некую модельную роль? Ведь вас наверняка рассматривали как человека, который быстрее всех войдет в курс дела и займется инновациями. В каких вопросах ваша команда опередила своих коллег?
- Полпреды или состоятся вместе, или не состоятся вообще. Есть общая задача, но, кроме этого, каждый из нас отрабатывает свои специфические задачи, и сейчас мы выходим на уровень обмена этим опытом. У каждого из полпредов есть своя ответственность, своя модельная точка. Но все собирается у президента, который на основании наработанного определяет дальнейшую стратегию.
- В вашем округе, пожалуй, самая большая специфика - национальная. На чем будет строиться ваш подход?
- Как вы понимаете, эта тема крайне щепетильная, здесь особенно важно проявить максимум толерантности и прозорливости, но эта терпимость и внимательность должны проявиться в отношении всех жителей округа, а не только этнонациональных элит или титульного населения в той или иной республике. Зададимся вопросом: все ли татары должны иметь право на сохранение национальной самобытности, на приумножение своей культуры, или только казанские и только проживающие в Татарстане? А кто оберегает национально-культурные интересы татар, живущих в Башкирии, Самаре, Вятской земле, татар-мишарей Нижегородчины? А башкир, живущих в Перми или Оренбурге? Наконец, интересы русских, где бы они ни проживали? Другими словами, национально-культурные сообщества живут на самых разных территориях, а не только в рамках национально-территориальных образований. Поэтому одним из направлений нашей работы станет развернутая практика "сшивки" округа по национально-культурному принципу поверх административных границ.
- Пожалуй, это смелое решение. Как к нему относятся президенты республик? "Сшивать", как я понимаю, в той или иной степени означает выравнивать в правах, то есть ослаблять суверенитет. Скажем, Конституционный суд Башкирии выразил несогласие с теорией "ограниченного суверенитета" и высказался в том духе, что найдет другое государство, если РФ будет попирать права суверенной республики.
- С правовой точки зрения никакого полного суверенитета ни у одного региона в составе Федерации не существует. Идет спор: являются ли договора, подписанные субъектами Федерации с Российской Федерацией, "международными"? Я считаю, что нет, ни один субъект Федерации не является субъектом международного права. Если вдруг на секунду предположить, что договора были бы "международными", то они вступали бы в силу только после ратификации Госдумой, чего никогда не было. Почему? Тип договоров такой процедуры не предполагал. И, главное, при всей свободе современных дискуссий и поиске взаимоприемлемых решений есть позиции, которые являются императивными. Целостность государства нами не обсуждается!
- Я бы сказала, что Поволжье в смысле угрозы национальных конфликтов - "второй Кавказ". У вас есть своя политика ответа на эти вызовы?
- Именно потому, что у нас здесь - не "горячий Кавказ", есть время отработать принципиально новые решения. Дилемма, перед которой оказалась страна: или мы скатимся к знаменитому хантингтоновскому сценарию (конфликта цивилизаций. - М.К.), или мы найдем способы комплиментарного, то есть взаимодополняющего, взаимоусиливающего развития культур, национальностей и целых миров. Здесь у нас в Приволжско-Уральском регионе столетиями шло совместное освоение территории по принципу взаимодополняющего развития, которое требует от государства особой культурной и национальной политики. И надо признать, что государство Российское такую политику имело. Продолжение этой политической линии и есть наша стратегия. Ровно то же самое в отношении конфессиональной проблематики.
- Правда, что в регионах, входящих в округ, появились ваххабитские школы?
- Проблема такая есть. В последнее время появилось несколько рабочих понятий ваххабизма. Но надо признать, что до сих пор в журналистской и политической средах это понятие употребляется в отношении всякого экстремизма, прямо или косвенно связанного с исламом. Это, конечно же, не правильно. Но куда более перспективная задача, стоящая перед нами, это выяснить, каков спектр культурных и религиозных интересов мусульман Поволжья и как эти интересы могут быть сопряжены с интересами государства.
- Принято считать, что Татарстан взял на себя миссию представления интересов мусульман. Есть ли сопоставимые по влиянию круги?
- Мы по-прежнему с большим уважением относимся и к Уфе, где исторически расположено Центральное духовное управление мусульман России и стран СНГ, и к Москве, где собирается Совет муфтиев России.
Недавно мы провели в Нижнем Новгороде конференцию по теме "Исламский фактор в обновляющейся Федерации". Собралось 30-35 человек ученых, людей, формирующих богословскую доктрину, теорию, философию, представители духовенства. Мы пригласили очень широкий круг лиц, в том числе и радикально настроенных. Приехала представительная делегация из Казани. Развернулась содержательная дискуссия. Результаты ее будут доступны для всех желающих. Наша принципиальная позиция - публичность того, то мы делаем.
- Для поддержания мусульманской культуры одной конференции мало, это задача системного образования, которое сводит воедино все накопленное в культуре...
- Вы правы. Власти в системе управления тоже нужны квалифицированные кадры. Мы начали оказывать содействие в организации специальных кафедр при университетах. Это касается и ислама, и православия, и других конфессий. В таких местах плодотворен межконфессиональный диалог.
- Ваш подход строится на том, что новое время требует новой системы управления, новой системы влияния. В чем вы видите главный вызов времени?
- Он заключается в том, что экономика перестала описываться границами административных регионов. Более того, экономика не описывается более и государственной границей. В ХХ веке большую часть прибыли мы получали в сфере индустриального производства природных ресурсов - все это привязывало к месту. Сегодня все большая часть прибыли в мире (и в России) будет производиться в сфере, не привязанной к месту. Это - инфраструктуры, наукоемкие технологии, программное обеспечение.
Для того чтобы оставаться среди значащих в мире держав, России необходимо иметь ВВП не менее 3-4 триллионов долларов. В противном случае любая дискуссия о всех стратегиях бессмысленна. Сегодня базовые отрасли России (включая нефтедобычу, нефтепереработку, машиностроение, ВПК, металлургия и т.д.) дают около 150 млрд. долл. Потенциал роста этих отраслей за 10 лет позволяет максимум удвоить эту сумму, доведя ее до 300 миллиардов долларов. То есть недостающие 3,5 триллиона долларов надо производить в других секторах экономики - в сфере услуг, наукоемких технологий, программного обеспечения. Здесь основным инструментом производства является человеческий капитал.
Особенность человеческого капитала заключается в том, что он не привязан к месту, он принципиально мобилен. Правильную или неправильную политику проводит власть - завод никуда не денется. А когда я работаю с человеческим капиталом, скажем, с компанией по производству программного продукта или оказания услуг, она способна мгновенно сняться и перерегистрироваться в другом месте.
- Вы говорите о глобальной смене системы управления страной. Это тоже будет предметом забот полпредов? С задачей смены модели управления не справились министерства...
- Министерство - это орган текущего управления, ведомственный по определению. Структура никогда не сможет реформировать саму себя, особенно если она отвечает за текущую деятельность. Работают бюрократические законы, описанные Паркинсоном. Президентская власть есть инструмент разработки стратегии и инструмент изменений. Это задача следующего уровня, которая может стоять перед институтом полпредов как части президентской вертикали власти.
- Вы говорите о том, что новые задачи управления диктуются тем, что экономика "потеряла" прежние границы. До какой степени, вы рассчитываете, новая стратегия может раздвинуть границы влияния?
- Я придерживаюсь теории русского мира. Зона возможной нашей работы, влияния и взаимодействия ограничивается не административной границей РФ, а зоной, где говорят и мыслят на русском языке. Возьмите Китай, который развивался благодаря соотечественникам за рубежом. Первые инвестиции, которые пришли в Китай, были не западные, а китайцев, живущих за границей.
- Значит, у нас есть шанс вернуть Украину, Белоруссию и страны Балтии в сообщество с Россией?
- Шансов объединения в рамках административных границ нет. Есть шансы выстраивать новую систему взаимоотношений с ними.
- В Госдуме уже поговаривают о том, что бюджет 2002 года будет выполняться по иной сетке, а Министерство экономики перейдет на работу с семью округами.
- Округ - не самостоятельный субъект и не мегарегион. Предполагать то, что в округе может появиться свой бюджет - категорически неправильно. То, что у нас в функциях полпредов есть разработка региональных программ развития - это, безусловно, так. Но это не значит, что мы будем делить деньги. Это значит, что мы будем влиять на распределение денег косвенно - через влияние на разработку программ. И это правильно. Полпредам не нужно подменять правительство и губернаторов. Не надо вырывать из ведомств кусок бюджета и начинать делить его самим. Тогда мы станем еще одним ведомством. Это еще одна угроза.
- Какая угроза главная?
- В новой России нет традиции власти, отвечающей за стратегические цели. У нас все измеряется текущим днем. У института президентской власти и полпредов задачи в первую очередь долгосрочные. Те программы, о которых мы говорим, - образовательные, культурные, транспортных коридоров, новых систем управления - все они долгосрочные, стратегические.
- На прошлой неделе Госдума реанимировала проект закона о региональной политике, который должен дать государству возможность проводить осмысленную политику поверх административных границ, каждый раз очерчивая для того или иного целевого проекта нужную территорию. Для этого оно будет располагать федеральными бюджетными средствами и, кроме того, сможет привлекать средства тех регионов, которые задействованы в конкретной программе. Помогать полпредам координировать это в округах будет Минэкономики.
- Что касается законопроекта о региональной политике - совершенно верно. Но что касается Минэкономики - все наоборот. Не Минэкономики для полпредов, а полпреды - для Минэкономики. Полпреды - система, которая позволяет федеральной власти взаимодействовать с регионами на другом уровне.
Когда я был премьером, меня всегда мучило, что происходящее в регионах является "черным ящиком" для федерального правительства. Запускаешь туда программу, которая по предварительному анализу должна работать, а она не работает. Огромная страна, 89 субъектов, что делают территориальные органы исполнительной власти - никто всерьез понять не может, каждый живет своей собственной жизнью. Минэкономики работает, чтобы эту стратегию развития страны формировать. А институт полпредов - дополнительный инструмент анализа со стороны президентской вертикали для обобщения предложений по выработке стратегии, по разработке модельных экспериментов. Поэтому - не Минэкономики для нас, а мы - для того, чтобы помочь на региональном уровне реализовать разработки, которые являются стратегическими для правительства и президента.
- Вы используете экономические рычаги в политическом торге? К примеру, "Татнефть", у которой не очень качественная нефть, выигрывает от того, что транспортирует ее через общую трубу. Но ведь можно дать ей "трубопроводный суверенитет"?
- Мы в состоянии решить политические проблемы, не используя подобных инструментов давления.
- Компромиссы - всегда лучше. В Кремле уже согласились с тем, что президент Татарстана Минтимер Шаймиев будет избираться на третий срок? Или у вас в запасе свои секреты?
- В ситуации по выборам важно одно, чтобы Татарстан не нарушил федеративный закон. Когда Госсовет Татарстана принимал вопрос о досрочных выборах, это было прямым нарушением законодательства. Минтимер Шаймиев обратился в Госсовет, и Госсовет мудро поступил, восстановив сроки, как до этого произошло и в Марий Эл.
Что касается возможности выбора на очередной срок Шаймиева, то нельзя делать подобные вещи только на основании закона субъекта Федерации. Если Верховный суд или Госдума дадут трактовку, что данная норма закона действует только с даты его принятия, то есть с 6 октября прошлого года, тогда любой президент, первый раз избранный до 6 октября, имеет право избираться еще на один срок, в том числе и Шаймиев.
У нас - единственная цель: обеспечить бесспорный приоритет законов РФ на всей территории, в том числе во всех национальных республиках. И обеспечить, чтобы эти законы неукоснительно выполнялись. А дальше жители Татарстана сами выберут себе президента. И если они выберут Шаймиева - замечательно. Здесь не может быть выигравших и проигравших. Если закон будет соблюден всеми - значит, мы все победили.