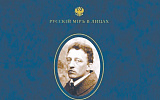|
|
В последние депрессивные свои месяцы Маяковский не знал, что из него вылепят после смерти. Фото из Большой советской энциклопедии |
С кого или с чего начнем? Пожалуй, с Перцова и его группы. Его нельзя было назвать в маяковсковедении человеком случайным. Он попал в состав редакции, готовившей первое, наиболее полное собрание сочинений Маяковского еще в 1938 году. У него имелся доступ ко многим рукописям поэта и к самым различным материалам о жизни этого художника. Во многом опираясь на эту базу, Перцов в 1950 году подготовил первую часть своей монографии «Маяковский. Жизнь и творчество», посвященную в основном дооктябрьскому периоду.
Эта работа критика очень понравилась тогдашнему генсеку Союза советских писателей Александру Фадееву. Главный писатель страны предложил ее автора выдвинуть на соискание Сталинской премии. Но она категорически не устроила Лилю Брик и ее соратников.
Окружение Брик попробовало устроить Перцову обструкцию в Комиссии Союза писателей по критике. Там дружно работу опытного литературоведа осудили. Но в какой-то момент в ситуацию вмешался Фадеев, и вопреки мнению Комиссии он книгу Перцова самолично отправил в Сталинский Комитет для рассмотрения ее на одном из пленумов. Возмущенная Брик, когда узнала о шагах Фадеева, пожаловалась личному секретарю Сталина – Александру Поскрёбышеву.
«В этой книге [речь шла о монографии Перцова. – В.О.], – сообщила она 21 января 1952 года, – дается неверная, придуманная когда-то рапповцами версия о двойственности поэта, о его «растоптанной капитализмом» душе; распространяются разнообразные литературные и прочие сплетни и слухи; чрезмерно раздувается влияние на него футуризма, и это заслоняет то глубоко революционное, что всегда было в Маяковском. Книга Перцова пестрит бесконечным количеством фактических ошибок и искажений (вплоть до неверного пересказа содержания стихов Маяковского)».
Но Поскрёбышев никогда в литературные споры не вмешивался. Это был не его уровень. Максимум, что он мог тогда сделать – зная, как высоко ценил творчество поэта Сталин, но на тот момент болевший, – переправить обращение Брик второму в стране человеку – Георгию Маленкову. Но и Маленков лишь в крайних случаях сам рассматривал письма на литературные темы. Поэтому жалобой Брик занимались уже другие люди: прежде всего секретарь ЦК Михаил Суслов и подчинявшийся ему отдел художественной литературы и искусства ЦК, руководимый Владимиром Кружковым.
К слову, на Перцова потом пожаловались в ЦК и некоторые другие литераторы. Особенно неистовствовал Александр Колосков. «По моему глубокому убеждению, – писал он в ЦК, – эта книга искажает облик великого поэта, она порочна и по своему основному выводу троцкистская».
А что сам Колосков тогда из себя представлял? Его вытащили в Москву его бывшие начальники по Ставрополю Михаил Суслов и Владимир Воронцов и устроили его на большую должность в Комитет по радиовещанию. Но ему был интересен Маяковский. В 1950 году он выпустил о поэте книгу «Жизнь Маяковского». «Это, – утверждал спустя много лет Василий Катанян, – была примитивная компиляция на уровне экскурсий для старшеклассников, седьмая вода на киселе всех общих мест и общих фраз, когда-либо сказанных о Маяковском» («Вопросы литературы», 1977. № 1).
Однако, несмотря на вхожесть Колоскова в большие московские кабинеты, эта жалоба не сработала. Перцова по-прежнему всячески отстаивал Фадеев. И тогда противники критика применили запрещенные приемы: они стали писать в инстанции кляузы на Перцова, припоминая ему старые связи с троцкистами и прочими оппозиционерами, большинство из которых в 37-м году расстреляли.
Перцову пришлось долго оправдываться. В одном из писем Сталину он признался, что во второй половине 20-х годов «занимал неправильные формалистическо-лефовские позиции в литературной критике». Перцов не отрицал, что в его работах 1927–1928 годов было «несколько литературных иллюстраций из Троцкого и Зиновьева».
Критик с горечью рассказывал о своих заблуждениях. Он писал Сталину: «Совсем еще молодым литератором я был привлечен в лефовский кружок грандиозной фигурой Маяковского. Он, как магнит, притягивал меня к себе. Но на этом огромной силы магните были ржавые опилки – лефовские ошибочные теории, которые подхватывали и пропагандировали члены кружка. Я принял магнит вместе с ржавыми опилками, налипшими на нем».
Покаявшись за прошлое, Перцов клялся вождю, что у него теперь только одна цель: «показать величие Маяковского». Но тут он столкнулся с врагами. К ним критик отнес в первую очередь Катаняна, Семена Кирсанова, Виктора Шкловского и Николая Асеева.
Кстати, Перцов к числу своих недоброжелателей отнес и Семена Трегуба, хотя он ни в клан Катаняна, ни в группу Кирсанова – Асеева не входил, а чаще тогда сходился во взглядах с главным оппонентом Василия Катаняна – Александром Колосковым (может, потому, что надеялся через Колоскова выйти на Суслова).
Но у Трегуба одно время было преимущество перед Катаняном. Ведь он в конце 30-х годов работал в главной газете страны – «Правде», а значит, его, по идее, никто не мог критиковать. Кстати, когда издательство «Советский писатель» в 1940 году выпустило книгу статей критика о Маяковском «Живой с живым», то оно так и было. Поначалу все Трегуба дружно хвалили: и газета «Комсомольская правда», и журналы «Звезда» и «Смена». Он считался неприкосновенным. И вдруг в марте 1951 года по нему ударил его бывший работодатель – та самая «Правда». Она поместила зубодробительную статью своего сотрудника и очень влиятельного критика Владимира Щербины «За правдивое освещение творчества Маяковского».

|
|
Михаила Суслова сейчас редко вспоминают, а ведь он был вершителем судеб. Фото из Национального архива Нидерландов. 1964 |
Отчаявшись добиться защиты у Суслова, Трегуб 2 февраля 1952 года отправил пятистраничное письмо Маленкову. «Поход против меня вызревал долго, – утверждал он. – Возглавляют его бывшие рапповцы и их покровители, которым Маяковский как кость в горле. Они заставили меня засесть за большую статью о старо-рапповских и ново-рапповских взглядах на Маяковского. Я посылал ее Вам. Мне сказали в аппарате ЦК, что она была доложена, что статья интересная, ее можно печатать, она предмет творческой дискуссии, которая назрела. Кто же напечатает эту статью?»
Но на что рассчитывал Трегуб? Как бывший работник «Правды», он прекрасно знал, как поступали с почтой в аппарате ЦК. Ему еще повезло, что его письмо не сразу расписали в отдел художественной литературы, а все-таки показали Маленкову. Второй в партии человек красным карандашом наложил резолюцию: «тов. тов. Суслову и Кружкову на Ваше рассмотрение». А Суслов своего мнения менять не стал.
18 февраля 1952 года он и Кружков доложили Маленкову: «Жалоба С. Трегуба лишена оснований». Они подчеркнули: «В книге «Живой с живым» у С. Трегуба творчество поэта представлено однобоко. Вопрос о новаторстве поэта в этой книге освещен так, что получилось противопоставление поэта и классической дореволюционной поэзии и лучшим советским поэтом нашего времени».
И совершенно другая реакция последовала на жалобу Перцова. 25 апреля 1952 года завотделом ЦК Владимир Кружков и завсектором ЦК Иванов доложили секретарю ЦК Михаилу Суслову, что Катанян, Асеев и Трегуб в своих заявлениях ЦК по каким-то вещам правильно упрекали Перцова. Но в целом они были в оценках Перцова не правы. В их заявлениях, по мнению двух партаппаратчиков, «содержались необоснованные обвинения автора [то есть Перцова. – В.О.], продиктованные, как видно, не интересами дела, а соображениями узко личного характера, групповой борьбой против т. Перцова».
И кто же все-таки был тогда прав? Трегуб или Перцов? Сейчас видно, что по большому счету – никто. И тот, и другой по-своему были тенденциозны. «Перцов, – отметил уже в 1977 году в своем дневнике критик Валерий Кирпотин, – превратил Маяковского в деревянную поделку». Трегуб в сравнении с ним писал более живо, но многое в поэте извращал. Перцов тогда оказался ближе к точке зрения партийных идеологов и прежде всего Суслова. А Трегуб, похоже, в тот момент не уловил новых веяний.
Кстати, в чем заключалась суть новых веяний? Власть произвела корректировку своего курса. Она стала в культуре вовсю поощрять почвенничество. В поэзии на первый план партаппарат и литгенералитет начали выдвигать Исаковского, Твардовского, Щипачева – поэтов разного художественного уровня, но близких по идеям, тематике и даже по формам. А Кирсанова и Асеева власть попробовала задвинуть на периферию. Трегуб же продолжал гнуть старую линию: мол, традиции Маяковского после гибели поэта продолжали лишь Кирсанов да Асеев.
Правда, в какой-то момент Трегуб свою тактику изменил. Он пошел на резкое сближение с матерью и старшей сестрой Маяковского и нашел у них полное понимание. Ему удалось уговорить сестру поэта обратиться с письмом к самому Сталину. И та 24 сентября 1952 года направила в Кремль жалобу.
Людмила Маяковская возмущалась, что наша печать творчество ее брата то замалчивала, то искажала. В пример она привела две истории: одну – с книгой Александра Колоскова, которая, по ее словам, «не могла выйти семь лет», и вторую – с пьесой Александра Липавского «Грозное оружие», которую разгромила «Правда», после чего ее убрали из репертуара Сталинградского театра.
К своему письму Людмила Маяковская приложила рукопись статьи Трегуба «Насущная задача маяковсковедения». Но, похоже, эти материалы дальше отдела художественной литературы ЦК никуда не попали и какое-то время пролежали там без рассмотрения. А произошло это не потому, что партаппарат уже устал от всех склок вокруг имени Маяковского. Просто в те дни завершалась подготовка к XIX съезду ВКП(б).
К слову: накануне съезда в Кремль попытался постучаться молодой сотрудник «Литературной газеты» Владимир Огнев. Он подготовил большущее письмо о положении дел в маяковсковедении. По его мнению, в литературной среде возобладал аракчеевский режим, а высокое писательское начальство попало под влияние бывших рапповцев, которые всегда к Маяковскому относились враждебно. «Мы, – заканчивал Огнев свое обращение, – просим одного: свободной дискуссии о Маяковском».
Молодой критик по наивности рассчитывал, что Поскрёбышев немедленно доложит о его письме лично Сталину. Но Поскрёбышев передал его Маленкову, а тот в те дни на писателей времени не имел: на носу было открытие XIX съезда партии, а много вопросов, связанных с этим съездом, оставались еще нерешенными.
После же съезда изменилась конфигурация партийной верхушки. Суслов был введен в состав Президиума ЦК, фронт его работ значительно расширился, а вопросы пропаганды и культуры отошли к новому секретарю ЦК – Николаю Михайлову. И Поскрёбышев все поступавшие к нему материалы о наследии и трактовках Маяковского стал перенаправлять уже Михайлову. Правда, 24 октября 1952 года он предупредил Михайлова: «Просьба учесть, что в свое время в этом деле разбирался тов. Суслов». Но Михайлову ничего этого можно было и не объяснять. Он знал об интересе Суслова ко всем вопросам, связанным с именем Маяковского, и знал, что, даже получив повышение, Суслов продолжал держать все, что имело отношение к поэту в поле своего внимания, и под своим контролем.
Дальше начались аппаратные игры. Дело в том, что Суслов еще до съезда поручил ряд вопросов в области маяковсковедения урегулировать заведующему сектором издательств Агитпропа Владимиру Воронцову (а с ним Суслов вместе работал еще с предвоенных лет в Ставрополе) и его непосредственному начальнику Лазарю Слепову. А Воронцов уже тогда не любил Брик и Катаняна, но во всем поддерживал своего знакомого по Ставрополю Колоскова. И ему очень не хотелось в этих историях светиться. Поэтому как только Суслов получил повышение, он уговорил нового секретаря ЦК по пропаганде Михайлова передать все жалобы по книгам о Маяковском в отдел художественной литературы ЦК Кружкову.
Но Кружкову тоже не захотелось стать крайним. И он вместе с завсектором своего отдела Ивановым сделал вот что. 15 ноября 1952 года два партаппаратчика предложили Михайлову все сбросить на Союз писателей, порекомендовав тому устроить в декабре обсуждение вышедших книг о Маяковском. Мол, Огнев же просил дискуссию, так проведите ее. И эта идея устроила как Михайлова, так и Суслова.
Дискуссия началась в Центральном доме литераторов 19 января 1953 года. Ее открыл замгенсека Союза писателей Алексей Сурков, а главный доклад сделал критик Валерий Друзин.
Удивительно, но чиновники тогда позволили высказаться представителям самых разных направлений. Возможности высказать свои мнения получили Павел Антокольский, Алексей Метченко, Василий Новиков, Алексей Колосков, Семен Трегуб и даже представитель клана Лили Брик – ее сестра Эльза Триоле. А заключительный доклад сделал Константин Симонов.
Не все тогда прошло гладко. Но наблюдавший за ходом конференции из своего кабинета на Старой площади Суслов в целом был доволен. Ведь, по сути, произошла окончательная канонизация Маяковского. Ну а то, что кто-то пытался подверстать поэта то к футуристам, то к каким-то попутчикам, это были мелочи, которые власть вскоре начала поправлять по своему усмотрению.
Напоследок добавлю: после дискуссии 1953 года Суслов все, что имело отношение к Маяковскому, держал в поле своего внимания и, когда считал нужным, вмешивался. Это касалось издания сочинений классика и книг, и фильмов о поэте, создания музеев и многого другого. В каких-то вопросах он доверялся Воронцову, ставшему в 1953 году его помощником, а Воронцов, в свою очередь, много лет опирался на Колоскова. Но в начале 70-х годов тандем Воронцов – Колосков распался, бывшие друзья превратились во врагов. А в 1978 году проштрафился уже Воронцов. Он стал, прикрываясь именем своего босса – Суслова, вмешиваться в тексты Маяковского и в очередном собрании сочинений классика потребовал снять посвящения поэта Лиле Брик. Константин Симонов, когда узнал об этом, написал жалобу Брежневу. И Суслов, упреждая возможную реакцию генсека, тут же отправил Воронцова на пенсию.