 Я всегда торчал в общей очереди в магазин.
Александр Трифонов. Очередь. 1997
Я всегда торчал в общей очереди в магазин.
Александр Трифонов. Очередь. 1997
Стихи Евгения Карасева (1937–2019) узнаются сразу. Его стих был перенасыщен жизнью. Перенасыщена была и его жизнь. Вор-карманник, семь судимостей, 20 лет в заключении (в общей сложности).
По улице, идущей от речки,
слева
ютится дом, где тепло
и не капает.
Я тащусь туда, как скотина
к хлеву,
родным понукаемый запахом.
Сказываются отнюдь не годы,
не явившиеся вдруг сновидения.
Это сила особого рода –
у ней нет объяснения.
Говорят, есть маги,
способные избавить
от странной
напасти.
Но я непонятную тягу
почитаю за счастье.
Всё стремится к счастью.
И вот такая тяга, описанная Карасевым, – это один из вариантов.
Формулы же собственного бытия он выводил с поразительной жесткостью:
Дорог много,
но две четких.
Говорят:
– Иди с Богом.
Или:
– Ступай к черту!
Не клюнув на молебен,
попытав нечистого петлю,
я выбрал журавля в небе.
И до сих пор ловлю.
Не всем по душе обряды, официальное не насыщает душу. Что остается? Остается продолжать быть ребенком: ловить журавля в небе.
Евгений Карасев прожил достаточно долгую жизнь. Однако и впрямь оставался ребенком, так и пытался поймать этого недостижимого журавля. А Богом он по-настоящему болел. Потому что слишком много познал: горького, соленого, многоликого.
В памяти много острых
камней,
в памяти много впроголодь
дней.
Камни затянет седеющий мох,
хлебом поможет Всевидящий
Бог.
И пахнет ветерком с тополей.
Но не мох,
и не Бог,
и никто бы не смог
выжать горькую соль,
выбрать долгую боль
непутевых дорог.
Перекатная голь,
я прошел поперек, я прошел их
и вдоль.
Он укорачивал и удлинял строку в пределах одного стихотворения. Ни на кого не похожий, не впадая в манию величия, присущую каждому стихотворцу, он точно определял свою роль. В четыре строки:
Среди песнопевцев у меня своя
ниша,
как у пичуги в мире
лиственном.
Она не выше других, не ниже –
единственная.
Стих его был шероховат и гармоничен одновременно. Карасев точно исполнил свои песни, погружаясь в недра преступного прошлого, вычерчивая тюремные будни.
Я всегда торчал в общей
очереди в магазин;
трясся в общем вагоне поезда;
валялся
в общей палате в больнице.
Пробовал робко
выступать, кивая
на самодовольных бобров:
мол, а почему они особняком.
И постоянно
слышал раздраженное: кто ты
такой, чтобы
тебя отоваривать с черного
хода, раскатывать
в мягких купе, лечить
в отдельных покоях?..
И, действительно, кто я? Чего
стою?..
Цену себе я узнал, когда сбежал
из лагеря.
Сведениями обо мне были
загружены телеграфные
и телефонные линии;
в оперативных сводках
я котировался выше угнанного
автомобиля,
обворованного академика;
и даже похищенной
с выставки известной
картины. Потому как
о маршрутах стибренных
машин сыщики
еще имели представление;
держали на кукане
и скупщиков краденого,
где могли всплыть
вещички пострадавшего
ученого; наконец,
строили версии о вероятном
движении
художественного раритета.
А вот что
в башке у давшего тягу особо
опасного
рецидивиста –
не ведал никто.
Очередь – тотальный нивелир, стоящий в ней профессор равен похмельному, что-то мычащему работяге, а ворчливая, помятая жизнью бабка, в сущности, мало чем отличается от изящной преподавательницы музыки.
Но жизнь – это ведь не очередь. Человек – это капелька. Но это живая капля. И она соединяется с космосом речи. С поэзией. И обретает новый голос. И меняет пространство вокруг. Добавляя ему ноты света. Потому что поэзия, даже идущая через дебри тьмы и лабиринты безнадежности, – светлое дело.
Впервые я свиделся
со старообрядцами
на знаменитом спецу в Весляне.
Они ни к кому не лезли
со своими святцами,
немногословные, как все
крестьяне.
В бане они сиживали особняком
и мылись старательно.
Любили чистые, просушенные
на ветру рубахи.
Словно каждодневно ждали
карателей
и готовились к плахе.
По тому размаху, с которым Карасев вбрасывал стихи в этот мир, он схож с Маяковским. Та же неистовость. Но только неистовость. А по сути, по звуку между ними нет ничего общего:
В детстве – насколько помню –
из всех букашек, от которых
увертывался ловко,
я не пугался, пожалуй, одного
насекомого –
божьей коровки.
Разглядывая ползающую кроху
на цветке глянцевом
или на каком-нибудь скромном
кустике,
я любовался ее красным
в крапинку панцирем
и чуткими, подвижными
усиками.
Евгений Карасев вообще воспринимается поэтом без родословной, без корней. Уж больно он ни на кого не похож. Сложно увязать его с предшественниками. Он пришел и заговорил: громко, мощно, услышишь – не забудешь.
Вероятно, корни у него все же были, однако, пропитываясь его поэзией, не хочется называть предшественников, выводить какие-то линии.
Просто перед нами факт: был вот такой – и остается – великолепный, ни на кого не похожий поэт. С жизнью сложной, кривой, но по-своему и счастливой, переполненной творчеством.




.jpg)




















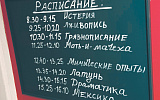



комментарии(0)