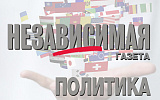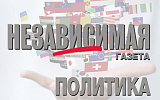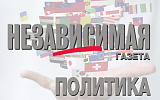|
|
| Английский замок и его слуги к финалу разрушат эту нежную любовь. Александр Феклистов и Лика
Нифонтова в ролях владельцев заколдованного замка. Фото Михаила Гутермана |
РУССКАЯ тема в творчестве Айрис Мердок заявлена театром "Сатирикон" как главная достопримечательность новой постановки "Слуги и снег". Программка знакомит нас с фотопортретом английской писательницы (там она словно волшебница) и фрагментом ее письма к Ольге Варшавер, переводчице пьесы, ставящейся в России впервые. В частном письме Мердок признается в том главном, что так привлекает нашего читателя к ее книгам: в любви к России. Спектакль так и будет увлекать нас богатой серией узнаваний: вот почти прямая цитата из русской классики, вот напоминание, а там - легкая ассоциация.
Пьеса "Слуги и снег" соединяет в себе детективную последовательность событий, атмосферу готического романа, утопичность и метафоричность сказки для взрослых и жесткий драматургический каркас в ибсеновском духе - неожиданная развязка совпадает с финалом.
Сравнение с "Вишневым садом" и правомочно, и разрушительно. Старинный дом отца, в который въезжают Базиль (Александр Феклистов) и его жена Ориана (Лика Нифонтова), встречает их все тем же простором комнат, детским уютом, услужливостью слуг, шкафом колоссальных размеров, но по сути это холодный призрачный замок, который не отвергает их, но всасывает в себя, загоняет в свою каменную ловушку. Звук от раскрученной Базилем юлы покажется нам звуком пока еще не лопнувшей струны, а в детской шкатулке раздадутся голоса прошлого, гул истории, которая заставит подчиниться себе всех персонажей пьесы.
Базиль вышагивает по гостиной стремительной походкой, восторженный и говорливый, с распростертыми руками и стоящими вкось - по-феклистовски - ногами. На правах нового хозяина он меряет залу глубокими круговыми движениями, раздает комплименты, произносит речи и заводит новые порядки. Словно русский романтический герой, он дарует слугам землю, желает организовать орган самоуправления - Совет слуг, школы для их детей, выстроить новую церковь (и едва ли не новую Церковь), отменить знаки почитания.
Хозяйская инициатива Базиля - плоды интеллигентского либерализма - сыграет роковую роль в его отношениях со слугами.
Все дело в зловещей фигуре отца-тирана, жестоко владевшего домом и державшего слуг в феодальной строгости, - гуманист Базиль желает установить порядки, обратные отцовским. Но беспощадные и безжалостные слуги-гномы, неусыпные хранители знания и старых традиций, - живущие плотной кастой, одной большой семьей, - не почувствовав в новом хозяине твердой руки, начинают спокойно и мерно восстанавливать тот ход вещей, к которому привыкли. Под разными видами они будут пытаться вернуть Базилю позволенную им же свободу, и когда тот окончательно откажется от нее, откроют ему тайну, на которой держится жизнь дома.
Под строгие звуки органной музыки и арии "Una furtiva lagrima" из "Любовного напитка", звучащих в спектакле рефреном, вершится суд над интеллигенцией, не способной вынести того груза ответственности, который она на себя возложила. Пресловутый европейский либерализм, которому невозможно соответствовать до конца, рождает тирана либо в среде "хозяев", либо в среде "народа" (а слуги Айрис Мердок - метафора того самого народа, вечной боли "русских мальчиков"). И это тот "смертельный ушиб", о котором пишет Мандельштам в стихотворении "Век", что опубликовано в программке. Нравственные проблемы Европы оказываются созвучными "русским вопросам".
"Сатирикон" выпустил очень сложный спектакль, требующий максимального интеллектуального напряжения, - и надо признать тот факт, что сегодняшней публике он не по зубам. Это очень чувствуется, когда находишься в гуще зрительного зала. И здесь проблема не в театре, не в режиссере (которая максимально облегчила понимание, сделав сценическую интригу сверхувлекательной) - проблема во времени и законах восприятия. Традиция социального театра в России пресеклась.
Режиссер Елена Невежина не только создает мощный многофигурный спектакль (а это нынче редкое умение) с романной структурой и множеством дополнительных сюжетных линий, которые в нем прописаны не пунктирно, но выступает и как мыслитель, которому не чужды рассуждения об ответственности человека перед обществом, о которой российская культура в постперестроечное время забывает упоминать.