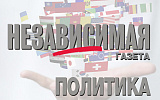Сцена Театра Ермоловой была убрана Сергеем Бархиным в соответствии с первым замыслом создателей спектакля: и он, кажется, состоял в том, чтобы поставить самую известную русскую народную драму "Царь Максимилиан" с памятью о том, что переписал ее Алексей Ремизов в 1920 году. На злобу дня, когда, с одной стороны, мотив укрощенного царя-душегубца мог найти самый горячий отклик и, с другой - когда народное искусство площадей и улиц стало главным жанром революционной культуры.
Сценография - в эстетике "мертвые с косами вдоль дорог стоят": на кроваво-красном фоне обуглившийся остов хаты, где опорами служат шесты, увенчанные композицией из конского черепа, человечьего и "живой" вороны. Справа и слева, ближе к ложам, - стояки с крестьянскими косами. И пока спектакль не начался, а декорация уже открылась, казалось, таким спектакль и будет: языческим, революционным, народным.
Стиль постановки - то, что мы увидели позже, когда действие началось, - проще назвать неудачной стилизацией народной драмы, потому что хуже всего здесь - с народным духом, искренностью эмоций. Народную стихию дано почувствовать только Владимиру Андрееву, исполнителю роли Царя. Всем остальным, кто его окружает, заведомо трудно преодолеть статус фигурантов, поэтому играют они так, словно желают нарочно выглядеть народными актерами в любительском спектакле. Музыка написана скорее для цирка или детского утренника, но не для драматической притчи. Бархинский четырехугольный остов, сужающий и без того маленькую сцену Театра Ермоловой, не дает режиссеру развернуться: здесь мы видим, как на узком пространстве погибает знаменитое умение Бориса Морозова красиво и мощно выстроить массовую сцену. В родном для него Театре Армии спектакль вышел бы куда изящнее.
Замыслы (предположим, что один - от Андреева, второй - от Бархина, третий - от Морозова) расползаются в разные стороны, как рак, лебедь и щука. Ермоловцы гордятся тем, что пьеса Ремизова впервые поставлена в России. Но именно литературности спектакля, специфически ремизовских интонации, его "обезьяньей" мифологии мы не ощущаем; спектакль поставлен так, будто в его основе - все та же народная драма, в которой естественным "продолжением" кажется современный сленг, который позволяют себе актеры.
Видимо, для того чтобы оправдать имя автора на титуле, создатели включают в плоть спектакля отрывки из эссе Ремизова "Огненная Россия": "Остановитесь и руки вымойте. Они - в крови, а лицо в порохе". Очевидна подмена - Ремизов 1920-го, еще российский гражданин, начинает говорить словами более поздних, эмигрантских, лет. Ремизовские "лирические отступления" Лев Борисов (в роли Гробовщика) читает в самый кровавый момент спектакля: когда Царь Максимилиан, убив непокорного сына, что не признает "кумирических богов" отца, а поклоняется лишь Богу Единому, просит Гробовщика схоронить тело. Гробовщик, исполнив дело, жалуется на жизнь, и тогда доктора по навету Царя калечат его больную голову, сердце, ноги. На костылях (разломанная надвое лопата), в белой рубахе актер произносит что-то вроде: "Широка, раздольна Русь, Родина моя, принявшая в себя много бед, много страданий. Вспомянуть невозможно... О моя Родина обреченная, пошатнулась ты, непоколебимая... Где ныне подвиг, где жертвы? Вожди слепые, что вы наделали? Обеспощадилось сердце человека..."
И здесь, пожалуй, когда назидательность спектакля достигает апогея, неожиданно возникает оригинальный смысл спектакля, который мог бы, при более удачных обстоятельствах, стать очевиднее. Несчастна Россия, в которой литература и самая "культурная", и такая, как "Царь Максимилиан", народная, живучая - говорит о жестокости, о страдании, о преступном поведении. Несчастна страна, чья народная культура отравлена "русской дурью", - ее история вынуждена двигаться вослед древнему сценарию "Максимилиана". Вечно отцы-самодуры будут убивать своих сыновей-изгоев, и будет вечный раскол, и вечное "похмелье"... Истоки национального драматического конфликта находят также и в древней русской песне: "А мы просо сеяли, сеяли / А мы просо вытопчем, вытопчем..." Что же это за народ такой, который еще на заре своей "народности" в игре хотел вытоптать то, что посеяли?!
* * *
В спектакле, где все не то и все не так, по-настоящему интересен лишь Владимир Андреев, о котором, даже если бы он играл плохо, написать следовало бы - роль Максимилиана нельзя не воспринять как бенефисную, созданную к 70-летнему юбилею артиста. Андреев, кажется, ведет ту именно литературную линию, о которой мы говорили выше. Максимилиан впервые выходит на публику веселым сумасшедшим - ободранная рубаха, на груди бирка с надписью "царь", на руках - наколки, у пояса - сабля и револьвер. Широкие немигающие глаза, яркие румяна на выдающихся вперед колобочками (действительно, как у кукольного Петрушки) щеках, заостренный, снова как у Петрушки, нос - и улыбка сколь кукольная, столь и страшная. На протяжении спектакля из этого нелепого и хвастливого Петрушки вызреет жестокий тиран-убийца, который с кукольной холодной жестокостью станет чинить насилие. Сын Адольф (Викентий Волчанский), страдающий за веру православную, произнесет над отцом свой апокалиптический приговор: "На голове у тебя - ворона, / на груди - хвосты, / а в руках - костры".
Когда-то мэтр театральной критики Наталья Крымова определила амплуа Олега Ефремова: Иван-дурак, русский национальный герой. Андреев - из того же круга народных актеров. Но в его "дурацкой", "петрушечьей" актерской природе часто сходится то, чего никогда не было в Ефремове, - аристократизм и жажда власти, властолюбие, даже тщеславие. Здесь амплуа Андреева - Царь-дурак, если угодно. И в этом спектакле он - Петрушка у власти.
Когда умерщвленный Максимилиан упадет навзничь, Андреев сорвет рыжий парик с головы, обнаруживая космы седых, пепельных волос, - мы поймем что-то очень важное в этом спектакле: русская дурость живет не только в Иванах-дураках, но и в царях, богатых опытом и мудростью. Вирус "дурости", тиранства, мучительства - внутри каждого.