 Есть и такой Мандельштам. В виде медали. Фото Евгения Лесина
Есть и такой Мандельштам. В виде медали. Фото Евгения Лесина
Мраморная мощь Мандельштама – это и беззащитность, и величие. Он взял самую высокую ноту мудрости, совмещая тяжесть соборов с необыкновенной, им изобретенной музыкой:
«Здесь я стою – я не могу иначе»,
Не просветлеет темная гора –
И кряжистого Лютера
незрячий
Витает дух над куполом
Петра.
Его световое пространство поднимается выше и выше, суммируя купола Византии и Средневековье, отступая к римским пределам. Мандельштам всюду перемещается легко, как волшебник. Он, как алхимик, превращает одно в другое и отовсюду черпает. Всем обогащает русскую просодию и речь вообще:
Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах
ночных.
Жуют волы, и длится
ожиданье,
Последний час вигилий
городских;
И чту обряд той петушиной
ночи,
Когда, подняв дорожной
скорби груз,
Глядели в даль заплаканные очи
И женский плач мешался
с пеньем муз.
Его томила жажда, сакральная и величественная. Его тоска по мировой культуре была необычайна. Его стихи тяжелы, как камни.
Он назвал Тютчева Эсхилом русского ямбического стиха. Но он и сам был таким. Легким и плотным.
Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И все твое –
От неизбежного.
Он чувствовал страшные пульсации великого времени. И предупреждал:
Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся
в разломах,
Зренья нет – ты зришь
в последний раз.
Он сказал: довольно
полнозвучья, –
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.
Здесь и раскаты колокола, и парение античных храмов. Он и свою долю предчувствовал. Здесь есть и стоицизм, и музыка:
За гремучую доблесть
грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире
отцов,
И веселья, и чести своей.
Его эпитеты растут из корней определяемых слов. Его метафоры рождаются из космоса.
Заблудился я в небе –
что делать?
Тот, кому оно близко, –
ответь!
Легче было вам,
Дантовых девять
Атлетических дисков,
звенеть.
А потом будут и его «Разговоры с Данте».
А в рецензии на Игоря Северянина он все сказал на половине страницы.
Есть у него и настоящий эпос:
Этот воздух пусть будет
свидетелем –
Дальнобойное сердце его –
И в землянках – всеядный
и деятельный,
Океан без окна, вещество…
Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу
в пустоте:
Доброй ночи! всего им хорошего
От лица земляных
крепостей…
Живые и мертвые мешаются в величественном хороводе, в тотальной пляске смерти.
А небо, шевелящееся над нами, он описал словесной бездной:
Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами
украденными,
Золотыми обмолвками,
ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий
шатры, –
Золотые созвездий жиры…
И он, конечно, опять и опять предчувствовал бездну:
Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком
– Я рожден в девяносто
четвертом,
Я рожден в девяносто
втором…
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья с гурьбой
и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
– Я рожден в ночь с второго
на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году –
и столетья
Окружают меня огнем.
























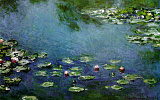


комментарии(0)