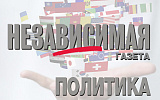Вейкко Тэхкэ. Психика и ее лечение: Психоаналитический подход. - М.: Академический проект, 2001, 576 с.
"Эта книга охватывает суть моего нынешнего мышления, основанного на опыте и инсайтах, полученных в ходе более сорока лет работы... Я не питаю каких-либо иллюзий по поводу предлагаемых мною новшеств...; наука не может представлять ничего другого, кроме серии моделей, более или менее полезных при решении частных проблем".
Вейкко Тэхкэ
Книга финского практикующего психоаналитика с сорокалетним стажем, работающего у себя на родине, а также в США и Швеции, ученика Эрика Эриксона, весьма впечатляет. Впервые она была издана всего восемь лет назад. Можно смело предсказать двойственность ее восприятия у нас. С одной стороны, возможен упрек в излишней схоластичности и чрезвычайной перегруженности специальной терминологией. И это отчасти будет верно. Ну, взять хотя бы такой пассаж: "Коммуникативная функция аффектов в качестве медиаторов субъективно значимых посланий между индивидами обеспечивает основу для понимания людьми друг друга в целом и для фазово-специфически настроенных, связанных с развитием и терапевтических взаимодействий в частности". А ведь здесь есть предложения с еще более сложными периодами и терминами. Но дело в том, что это, пожалуй, тот редкий случай, когда такой язык вполне оправдан. На самом деле изложение в "Психике и ее лечении" настолько концептуально и связно, что здесь нет ни одного лишнего слова. А по энциклопедичности содержания эта книга оставляет далеко позади знаменитый "Словарь по психоанализу" Лапланша и Понталис. Пересказывать содержание этого интеллектуального десерта просто бессмысленно. Книга насквозь структурна и построена как единый смысловой блок, так что вынь из нее хотя бы один кирпичик - и разрушится все здание. Скажем только, что между психоанализом и наукой автор ставит строгий знак равенства (только психоанализ - это "понимающая", а не "объясняющая" наука), чего неукоснительно и придерживается на протяжении всего текста.
В книге три части: анализ структуры психики (собственно "психика", следуя заглавию работы), особенности аналитического понимания (очевидно, "и" заглавия) и непосредственная работа этого понимания в терапии (собственно "ее лечение"). Вторая часть построена на оригинальной идее самого автора: единственным источником знания для аналитика является только его собственная психика. Переживания же пациента доступны ему только по аналогии, опосредованно. Другая авторская идея - наличие в психике третьего (помимо классических "интроекции" и "идентификации") механизма замещения утраченного объекта желания. Этот механизм, наиболее здоровый из всех трех, - создание воспоминания об объекте как о чем-то, принадлежащем исключительно прошлому, изжитому и преодоленному.
В остальном же Тэхкэ излагает не собственные свои взгляды, а с высоты своих сорока лет практики и ста лет психоаналитической традиции охватывает единым взглядом всю историю и теорию фрейдовских школ. Нет здесь почему-то только структурно-лингвистической теории Лакана, в остальном же и эго-психология, и теория объектных отношений, и "развитийная" школа, и психология Собственного Я. И вот так, главу к главе, раздел за разделом, ткет Вейкко Тэхкэ свой ученый финский эпос. "Ну до чего же нудно и непонятно!" - возопят некоторые, - "Это же все для специалистов!". Меж тем книга далеко не только для профессионалов. Она могла бы послужить прекрасным введением в психоанализ для "чайников", так как снабжает читателя целостным структурным взглядом на предмет. (А ведь это такая редкость в наш век всеобщей относительности и плюрализма школ). Правда, для всего этого придется основательно запастись терпением...
В приложении к книге дана информация о состоянии психоаналитических дел в России. С недоумением читаешь строки о "пролонгированно-супервизированных случаях", "шаттловом анализе" и "шаттловых" же "супервизиях" (о чем это все?), и становится грустно. Ну не принимает русский язык психоаналитической терминологии, которая в данном случае превращается в партийный жаргон. И ведь в этом, в общем-то, некого винить. Скорее стоит задуматься о том, что русская культура тоже ведь развивалась, мягко говоря, в стороне от психоанализа. В статье американской журналистки Сары Каруш интересно рассказывается о психоанализе в России семидесятых годов с двумя загадочными для широкой публики фигурами - Михаилом Ромашкевичем и Сергеем Аграчевым (кстати, по образованию он инженер-электронщик). Венчает же невеселую картину рассказ о том, как отечественные аналитики мигрируют между Европой и Россией с целью поднабраться опыта. "Было несколько человек, которые отправились на несколько лет обучаться в другие страны, но, к сожалению, ни один из них до сих пор не вернулся. Мы ждем их, но не знаем, вернутся ли они". Одним словом, налицо плохо скрываемое "все очень плохо". Разве что книжка Тэхкэ дает какую-то надежду.