 Луга, облака… Михаил Клодт фон Юргенсбург. Пейзаж с облаками. Частное собрание
Луга, облака… Михаил Клодт фон Юргенсбург. Пейзаж с облаками. Частное собрание
Василий Розанов и Константин Леонтьев никогда лично не встречались, но состояли в оживленной переписке, прерванной кончиной последнего. Интересно, что в годину революционной смуты Розанов упоминает Леонтьева, предупреждавшего о грядущей катастрофе: «И оказались правы одни славянофилы. Один Катков. Один Константин Леонтьев». Что можно сказать о них? Генераторы смысла, эстеты, провидцы. После смерти мыслители оказались рядом – две могилы находятся в Черниговском скиту под Сергиевым Посадом.
Советская власть этих писателей, мягко говоря, не жаловала: могилы были заброшены, книги не переиздавались, серьезные исследования не появлялись. Но в андеграунде их знали, цитировали, обсуждали. Впрочем, в поэтических текстах это отражено слабо.
Самое значительное полотно, посвященное Леонтьеву, создал Геннадий Айги. Это «Константин Леонтьев: утро в Оптиной пустыни».
Известно, что автор трактата «Восток, Россия и Славянство» с 1887 года жил в Оптиной – сначала как мирянин, снимал двухэтажный дом у самой монастырской стены, затем принял тайный постриг, стал иеромонахом Климентом. Впрочем, в эти биографические подробности Айги не вдается. Его интересует внутреннее состояние писателя, зачеркнувшего суету современности и погрузившегося в бытийное пространство:
снова – такое же поле
как будто не видишь:
в горнице – будто – из боли
своей сознаешь:
ярко – в такую же – бывшую
– ширь!
Здесь, в этом медитативном письме, реалии ускользают, остается только это «есть», единое, которое присутствует во многом. Многое не в силах существовать без него, потому что будет рассыпаться до бесконечности. Но само единое не нуждается во многом. Оно просто «есть»:
есть – как тогда!
за окном
беспрестанно…
Айги вводит в переживание бытия время («как тогда»), то есть трагедию. Ведь бытие в самом себе не несет боли. А тут: «из боли своей сознаешь». Кто знаком с творчеством Леонтьева, легко может дописать картину. Услышать его сетования по поводу того, что индивидуализм убивает личность, что красота уходит из мира, что поклонение человеку пересилило любовь к Богу, веру в Церковь и священные права семьи.
Но можно не дописывать, поскольку поэту важен не исторический персонаж, а просто человек, встретивший вечность. Леонтьев не смотрит в сторону монастырских храмов. Его взгляд устремлен за церковную ограду – в поле:
и – время от времени:
темью при комьях белеющих:
самообъяснимо – что е с т ь
Единое выговаривает себя само, открывается человеку через вот-бытие, которое близко, но уже далеко. Оно не превращается, как у Блока, в мистический сквознячок, не барахтается в безумии дней и ночей, а просто растворяется в гомогенном времени-пространстве, где только отдельные неясные образы – белеющие комья – говорят о действительности.
Леонтьев – оригинальный мыслитель. Розанов не только мыслитель. Он интересен и формой подачи материала. Его «Уединенное», «Опавшие листья», «Апокалипсис нашего времени» стремятся к минимализму. Если продолжить это движение прозы и сочетать его с поэтическим минимализмом и верлибром, то мы придем не к афоризмам, не к максимам, а к опытам не в стихах, к текстам на грани стиха и прозы. Некоторое их количество можно встретить, к слову, в альманахе «Черновик», который издавал Очеретянский в США. Розанов наметил важный литературный вектор, но никто из поэтов, которые занимались в самиздате этой темой, то есть исследованием пограничных областей между стихом и прозой, не признали в нем своего предтечу. Розанова андеграунд читал по старинке, с акцентом на содержание. То есть не совсем, конечно, так, как обыкновенный советский читатель, который и о писателе-то ничего не слышал, но формальный момент часто ускользал, заменялся другим формальным моментом, уводившим куда-то в сторону.
Скажем, Виктор Кривулин изображает читателя-наблюдателя:
фиолетовый читан
флоренский, захлопнут
черно-пурпурный розанов, угол
Садовой
и Гороховой…
Обложки дореволюционных книг сочетаются с видом из окна, культура прокладывает свои тропинки, но при чем здесь Флоренский и Розанов? Только при том, что их книги изданы в императорской России.
Александр Величанский в отличие от Кривулина касается проблем самого стиля розановского письма:
Гроздь рябины на заре мороза:
стала сладкой горечь –
это проза
Розанова: проба на разрыв
всех противоречий... И вопроса
нет – ответ настолько
сиротлив.
«Сиротливый ответ» – это сильно! Разновекторная литературная политика Розанова ведет к уничтожению вопроса. Не всегда ясно, о чем мы говорим, хотя тема автором прочерчена. Это движение по краю смысла приводит к неожиданному результату: горечь становится сладкой. Нужно только уметь двигаться, соблюдать меру.
Стих Величанского удивительно пластичный, богатый переносами – он в чем-то рифмуется со скачками мысли Розанова и в чем-то отражает его приемы.
Скачков в разные стороны у Розанова действительно много. Дмитрий Авалиани, ища точные слова для своих листовертней, остановился на двух высказываниях: «Розанов – домочадец» и «Вася Розанов – срам среди веры». Все они характеризуют писателя.
Здесь невозможно пройти мимо знаменитых розановских эскапад в адрес Христа и Его Церкви. То, что Розанов не был оголтелым атеистом и понимал значение традиции для устроения жизни человека и государства, говорилось исследователями уже достаточно. Приведу только одно высказывание писателя: «Как не целовать руку у Церкви, если она и безграмотному дала способ молитвы: зажгла лампадку старуха темная, старая и сказала: «Господи, помилуй»... – и положила поклон в землю. И «помолилась», и утешилась. Кто это придумает? Пифагор не «откроет», Ньютон не «вычислит». Церковь сделала. Поняла. Сумела...» Мы хотим отметить другое: неофициальных поэтов постоянно тянет к религиозной теме, и это свидетельствует о градусе духовного горения в культурном подполье.
Розановские представления в андеграунде серьезно не осмысливаются. Они просто пробрасываются, как тема. Так делает это, к примеру, Михаил Сухотин: «Пусть так! Как Розанов у церкви». Розанов появляется среди впечатляющего набора иностранных имен с рефреном «пусть так».
Впрочем, иногда слов оказывается несколько больше. Вот Александр Миронов сочиняет восемь трехстиший с общим названием «Возле русской идеи» с подзаголовком «Восемь надписей на литературной могиле В.В. Розанова». Название отсылает к статье Розанова 1911 года, в которой говорится о взаимоотношениях полов – это любимый розановский сюжет: «Женщина уступчива и говорит «возьми меня» мужчине; да, но едва он ее «берет», как глубоко весь переменяется». Главный стержень статьи – это, конечно, разговор о роли разных народов в строительстве Российского государства (перечислив Саблера, Гершензона, Даля, Шейна, Розанов заключает, что «они работают русскую работу»).
Однако Миронова интересует не это. Он обрушивается с критикой на Христа (хотя сама статья вроде бы не о религии):
Что Он принес на землю? –
Скорби и раны,
смерть да бесплодье, воню
загробной жизни,
час неделимый между собакой
и волком.
Если учесть, что главная мироновская тема – это русское сектантство, любование смертью и противоестественным поведением, то произнесенные им слова не кажутся странными. Так Миронов отрабатывает розановские проблемы. Жаль, что делает он это немного топорно (в тексте хватает грубых выражений, которых и в помине нет в статье, – «рыло России», «лифчики сбросим в церкви» и т.п.).
Розанов, как известно, всячески развивал тему плоти. Сергей Стратановский, размышляя об увековечивании памяти писателя, предлагает назвать его именем не проспект, не улицу, а закоулок. Да еще такой, где мысли Розанова о плоти станут реальностью:
Розанов закоулок –
То есть имени Розанова,
Где-то там, в ветхомани
ветлужской
Или калужской, владимирской,
сызранской, тульской,
рязанской,
Закоулок заветный,
снытью заросший, крапивой,
С церковью квелой и голой
поповной у баньки,
А за банькой – луга, облака…
Дух и плоть, Россия и Европа, славянофилы и либералы – вот дилеммы, встававшие перед Леонтьевым и Розановым. Но они отступали в сторону, когда дело касалось красоты. Даже такой простой, как «голая поповна у баньки».



























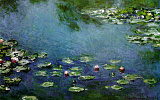
комментарии(0)