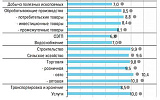|
| Александр Кушнер:
«Что ни век, то век железный». Фото из архива Александра Кушнера |
Поэзия Александра Кушнера наполнена размышлениями о сегодняшнем дне и о вечном. Это традиция, та классическая линия акмеизма, которую поэт пронес через жизнь, это эпоха. Александр Кушнер – один из немногих, кто в наше непоэтическое (в призме социума) время известен не только в профессиональной среде. Но главное, что его слово, отточенное в стихах, в речи обретает не меньшую ответственность. С Александром КУШНЕРОМ побеседовал Владимир КОРКУНОВ.
– Александр Семенович, лет 10 назад в одной из статей прочел, что вы мыслите книгами, методично готовя одну за другой с перерывом в несколько лет. Книга для вас – полноценный способ высказывания, подведение промежуточных итогов – или что?
– Нет, конечно, «книгами я не мыслю», пишу стихи, а не книги. Но по прошествии трех-четырех лет набирается количество стихов, достаточных для новой книги. При этом получается так, что каждая следующая книга не похожа на предыдущую, отличается от нее, потому что за это время ты и сам изменился, повзрослел на три-четыре года, и время тоже не стояло на месте, изменилось – и таким образом, у каждой новой книги возникает свой лирический сюжет.
Понятие «книга стихов» утвердилось сравнительно недавно. В первой половине XIX века его еще не было. «Сочинения», «Стихотворения», «Повести и мелкие стихотворения» – так назывались сборники стихов Пушкина и его современников. Стихи в них шли в хронологическом порядке или представляли собой случайное собрание не связанных даже хронологией стихотворений. А главную нагрузку брала на себя поэма, стихи же были дополнением к ней.
Первой книгой стихов в сегодняшнем понимании явилась книга Баратынского «Сумерки» (1842 год). Как видите, у нее уже было название, и стихи в ней были выстроены в соответствии с ее главным смыслом – трагическим мироощущением поэта, его одиночеством, подведением неутешительных итогов жизни. И в книге не было ни одной поэмы! Эта тоненькая книга в зеленой бумажной обложке – одна из самых драгоценных реликвий – стоит у меня на книжной полке.
И в нашем сознании книга стихов утвердилась как решающий факт поэтического творчества: «Стихи о прекрасной Даме» Блока, «Кипарисовый ларец» Анненского, «Белая стая» Ахматовой, «Сестра моя – жизнь» Пастернака и т.д., вплоть до наших дней.
– А поэма? У вас, как я помню, есть даже стихотворение «Отказ от поэмы»?
– Наша поэзия непредставима без великих поэм Пушкина, Лермонтова, Некрасова... Но что такое поэма? Это стихотворное повествование, и оно было необходимо в отсутствие прозы. А затем проза Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова вытеснила поэму. Уже Тютчев не написал ни одной поэмы. В поэзии лирика вытеснила эпос. Не писали поэм Иннокентий Анненский, Мандельштам... Вы скажете: а как же «Облако в штанах» Маяковского или «Поэма горы» Цветаевой? Отвечу так: в этих вещах преобладает лирическое чувство, лирическая интонация. И главный герой этих поэм – сам автор. Можно сказать, что это уже не поэмы, а большие лирические стихи.
– Как я понимаю, вы лирику предпочитаете эпосу?
– Совершенно верно. Всю жизнь я отстаиваю лирику, считая ее душой искусства. Ее прирост и в стихах, и в живописи, и в музыке – везде – представляется мне спасительной и счастливой тенденцией. Лирика говорит с человеком наедине, ведет с ним тайный, скрытый от чужих глаз, интимный разговор. Эпос представляется мне архаикой, он пропитан кровью, человеческая жизнь для него настоящей ценности не представляет: одним человеком (или сотней людей) больше или тысячей меньше – не важно, не имеет значения.
Чем была занята советская идеология? Поощрением эпоса. Потому и приветствовалось создание крупногабаритных произведений, эпических поэм, вплоть до «Поэмы о наркоме Ежове» Джамбула. А лирика защищала человека, помогала ему выжить в этих железных тисках. Потому и выбраны были в качестве жертв в 1946 году Ахматова и Зощенко, потому и развернулась война против «камерности» и «мелкотемья».
– Но ведь и у эпоса есть свои заслуги, невозможно представить мировой литературы без него!
– Разумеется. А все-таки Гомер сегодня писал бы лирические стихи. И будем точны: его эпос то и дело пересекается лирическими мотивами – вспомним сцену прощания Гектора с Андромахой или даже такую прелестную подробность, о которой у меня есть стихи, начинающиеся так: «Первым узнал Одиссея охотничий пес,/ А не жена и не сын. Приласкайте собаку./ Жизнь – это радость, притом что без горя и слез/ Жизнь не обходится, к смерти склоняясь и мраку».
– Теперь для меня как-то по-новому открылся смысл характеристики, данной вашему творчеству Иосифом Бродским: «Александр Кушнер – один из лучших лирических поэтов ХХ века, и его имени суждено стоять в ряду имен, дорогих сердцу каждого, чей родной язык русский».
– Да, лестное для меня высказывание, может быть, даже слишком лестное. Кстати сказать, Бродский, прекрасный поэт, писал и поэмы, но они мне кажутся слишком громоздкими, их я не перечитываю, другое дело – его стихи. Нашу поэзию без них уже и представить невозможно. Но скажу еще несколько слов в утешение тем, кто без эпоса обойтись не может: именно в «книге стихов» лирика берет на себя некоторые функции поэмы, разворачивает панорамную картину мира. Книга стихов рассчитана на последовательное чтение от начала до конца, в ней отражено, «остановлено» время, прожитое нами.
– Позвольте дискуссионный вопрос, который должен приблизить читателя к пониманию вашего творческого метода. Как вы считаете, имеет ли поэт право размышлять в стихах, доносить результат размышлений, и не противоречит ли это художественному образу?
– Мысль не может противоречить художественному образу, потому что в стихах это не голая мысль, а поэтическая, можно сказать, родившаяся в счастливой, метафорической рубашке. Приведу лишь один пример. Есть у меня стихотворение памяти Лидии Гинзбург, моего старшего друга, замечательного филолога и прозаика, ученицы Тынянова и Шкловского. Называется оно «Сахарница». Это реальная сахарница, стоявшая у нее на столе, а после ее смерти попавшая к другим людям, в другую обстановку. В гостях у этих людей я увидел ее опять – и мне показалось, что ей и здесь хорошо, она не скучает по хозяйке, «не хочет ничего, не помнит ни о чем». Но вот его последние строки: «...И украшает стол, и если разговоры/ Не те, что были там – попроще, победней,/ Все так же вензеля сверкают и узоры/ И как бы ангелок припаян сбоку к ней./ Я все-таки ее взял в руки на мгновенье,/ Тяжелую, как сон. Вернул и взгляд отвел./ А что бы я хотел? Чтоб выдала волненье?/ Заплакала? Песок просыпала на стол?»
Это стихи о жизни и смерти, о памяти и любви к умершему человеку, но мысль о его посмертной жизни в нашей памяти высказана не голыми словами, а опосредованно, предъявлена в художественном образе. К слову сказать, эти милые, добрые люди подарили мне сахарницу – и теперь она стоит у меня в шкафу. Могу показать.
– С удовольствием посмотрю. Но пока самый важный, наверное, вопрос: что такое поэзия для вас?
– Поэзия для меня – великая радость и утешение, счастье моей жизни и ее главный смысл. И все-таки я, наверное, не писал бы стихи, если бы не знал, что такую же радость и утешение находят в поэзии многие люди, любящие стихи. Дать определение поэзии невозможно так же, как музыке. У Пастернака есть чудесное стихотворение «Определение поэзии», но это определение – чистая условность: «Это – круто налившийся свист,/ Это – щелканье сдавленных льдинок,/ Это – ночь, леденящая лист,/ Это – двух соловьев поединок». Как видим, и он не справился с определением, да и не стремился к этому.
– Поэзия в XXI веке – какой она станет? Вытеснят ли верлибры традиционный силлабо-тонический стих или оба течения будут существовать параллельно?
– Какой станет поэзия в ХХI веке, предсказать не берусь. Надеюсь только, что силлабо-тонический стих не будет вытеснен верлибром. Не будет вытеснен потому, что как будто специально создан для русской речи с ее падежными окончаниями, многовариантностью ударений, а главное – со свободным порядком слов в предложении: «Редеет облаков летучая гряда». Подлежащее стоит в самом конце предложения! Или строка из Батюшкова: «Я берег покидал туманный Альбиона». Она тоже завораживающе действует на нас благодаря своей непредсказуемой инверсии. И все это придает русскому стиху ту мелодичность, которой нет и не может быть в верлибре. А рифмы! Как их много, сколько неожиданных, непредвиденных. И разве есть старые рифмы? В каждом новом прекрасном стихотворении они живут по-новому. И еще одно чудесное свойство силлабо-тонического стиха – он запоминается, его мы твердим, шепчем, читаем наизусть: «Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит...» А верлибры запоминанию не поддаются, их мы в своем сердце не носим.
– Сегодня даже образованные люди зачастую посредственно ориентируются в современной поэзии. Но когда цитирую две ваши самые знаменитые строчки: «Времена не выбирают,/ в них живут и умирают», кивают с узнаванием.
– Да, этим строчкам повезло. Но стихотворение не сводится к ним. «Что ни век, то век железный,/ Но дымится сад чудесный,/ Блещет тучка, обниму/ Век мой, рок мой на прощанье./ Время – это испытанье./ Не завидуй никому». Этому стихотворению повезло: его пели Сергей и Татьяна Никитины. Но ничуть не хуже, мне кажется, и другие стихи, например, такие: «Умереть – расколоть самый твердый орех,/ Все причины узнать и мотивы./ Умереть – это стать современником всех,/ Кроме тех, кто пока еще живы». Или такие: «Всё нам Байрон, Гёте, мы, как дети,/ Знать хотим, что думал Теккерей./ Плачет Бог, читая на том свете/ Жизнь незамечательных людей./ У него в небесном кабинете/ Пахнет мятой с сиверских полей...» Или из недавних стихов: «Рай – это место, где Пушкин читает Толстого./ Это куда интереснее вечной весны...» Или вот эти: «А вы поэт какого века?/ Подумав, я сказал, что прошлого./ Он пострашнее печенега,/ Но, может быть, в нем меньше пошлого./ И, приглядевшись к новым ценникам,/ Шагну под сень того сельмага,/ Где стану младшим современником/ Ахматовой и Пастернака...»