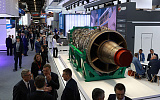Фото Reuters
Фото Reuters
Доминирование доллара многогранно. В долларовых активах держат резервы многие центробанки. В долларах устанавливаются цены и ведутся расчеты при международной торговле. В долларах привлекают внешнее финансирование, и к доллару свои валюты привязывают страны. Но в последнее время все чаще стали говорить о возможном закате американской валюты. Недавно банк JP Morgan разместил материал, в котором рассматриваются предпосылки к мировой дедолларизации. Насколько справедливы такие ожидания?
Предпосылки к дедолларизации есть, но доминирование доллара не окончится в ночь со среды на четверг. Этот процесс, вероятно, займет не одно десятилетие. Напомним, начало «эпохи доллара» связывают с созданием Бреттон-Вудской системы в 1944 году, в результате чего денежная единица США, имея золотое обеспечение, заняла ведущее место в мировой валютной системе. Однако прежний фаворит – британский фунт – еще не одно десятилетие сохранял свои позиции и только с наступлением 1970-х годов ушел из лидеров. Реконфигурация мировой валютно-финансовой системы весьма инерционный процесс.
Но может быть, процесс дедолларизации давно идет? Каковы тенденции перераспределения сил между мировыми валютами? Уверенно можно говорить о трех тенденциях, которые в последние два десятилетия проявляют себя в разных аспектах валютного обращения.
Во-первых, позиции американской валюты остаются незыблемыми. Долларовые активы составляют более 50% мировых валютных резервов, в 45% транзакций на валютном рынке участвует доллар, а среди стран, привязывающих национальную валюту к иностранной, две трети стран выбирают доллар в качестве валюты привязки. Около 55% банковских кредитов, привлеченных заемщиками из развивающихся стран на внешних рынках, номинированы в долларах. В системе SWIFT переводы в валюте США составляют от 40 до 50% в зависимости от типа транзакции. Важно, что все эти показатели присутствия доллара не сокращаются, а остаются стабильными на протяжении многих лет.
Во-вторых, евро, иена, швейцарский франк и британский фунт скорее теряют вес в мировой экономике. Их теснят валюты третьего и четвертого ряда: австралийский, канадский и гонконгский доллары, норвежская и шведская кроны, южноафриканский рэнд, а также юань. За минувшие 20 лет доля этих валют в обороте мирового валютного рынка увеличилась в полтора раза.
В-третьих, китайский юань, имеющий сегодня скромные позиции на уровне валюты третьего ряда, по некоторым показателям набирает влияние. Особенно заметен рост доли юаня на мировом валютном рынке и в международных расчетах. По данным обзора Банка международных расчетов от 2022 года, доля юаня в обороте мирового валютного рынка составила 3,5%. Немного, но если учесть, что в 2007 году эта доля составляла 0,25%, то ситуация выглядит совершенно иначе.
Означает ли такой быстрый темп роста сферы обращения юаня, что он в обозримой перспективе станет ведущей мировой валютой или хотя бы бросит вызов доллару? Казалось бы, юань вполне устойчивая валюта с предсказуемой низкой инфляцией, при этом китайская экономика велика и сохраняет высокие темпы роста.
У юаня, несомненно, есть потенциал роста. Однако для того, чтобы юань смог стать полноценной альтернативой доллару, необходимо то, чего в экономике Китая на сегодняшний момент нет и не предвидится, – развитой, гибкой, многослойной и открытой миру финансовой системы с устоявшимися и прозрачными правилами регулирования. Валюту делает резервной не обеспеченность товарами (что бы это ни значило), а прежде всего финансовая инфраструктура, сопряженная с этой валютой. И именно это главный козырь США и фундамент доминирования доллара, которого нет у китайских товарищей.
Доверие к финансовым институтам США и американской валюте хотя и пошатнулось в последнее время, но все же пока остается высоким. Ущерб от эксцентричного поведения нынешнего президента США, вполне однозначно заявляющего о намерении ослабить доллар и подчинить своей воле ФРС, заметен и неприятен, но не критичен.
Спрос на госдолг США тоже высок. Ранее часто говорили об активном выходе Китая из американских облигаций. Действительно, в 2013 году китайские инвесторы держали 1,3 трлн американского долга, а сегодня эта цифра составляет всего 756 млрд. Но процесс дедолларизации Китая остановился: за минувший год эти вложения сократились всего на 12 млрд долл. А другие страны наращивают вложения в американский госдолг, несмотря на эпатажные жесты Дональда Трампа.
При всех структурных проблемах доллара (их, конечно, не следует игнорировать) китайская финансовая система не способна предложить того спектра финансовых услуг, который предлагают Соединенные Штаты. В Китае Центральный банк находится в прямом подчинении у правительства, а значит, формализованные институциональные тормоза, гарантирующие монетарную дисциплину, в КНР отсутствуют. В 1985–1995 годах китайское правительство активно стимулировало экономику, подпитывая рост эмиссией, в результате чего юань потерял две трети своей стоимости против ведущих валют. Сегодня экономическая политика Китая гораздо более зрелая и ответственная, чем 40 лет назад. Но и по сей день правительство Китая опирается на ручное управление и неформальные практики, что не добавляет доверия.
Помимо этого, превращение юаня в мировую валюту сделает экономику Китая менее управляемой. Валовые трансграничные потоки капитала в Китае составляют примерно 40% ВВП, притом что в США и Великобритании они равны 65 и 95% ВВП соответственно. Чтобы сделать юань ведущей резервной валютой, китайские власти должны допустить значительный рост финансовых потоков, а это несет в себе риски. Маловероятно, что правительство КНР пойдет на такие шаги.
К тому же Китай, как страна-экспортер, выступает не как заемщик, а как мировой кредитор. Характерно, что китайские власти вводят ограничения на трансграничные финансовые сделки прежде всего с целью сдержать отток капитала, а не чтобы защититься от притока. Это говорит о сравнительно большей привлекательности иностранных активов по сравнению с тем, что могут предложить китайские финансовые рынки. Если китайские активы повысят свою привлекательность, то спрос на юань вырастет, он укрепится, а это подорвет экспортный потенциал КНР.
Потеря долларом «непомерной привилегии» (когда и если она произойдет) растянется на годы. Возможно, сейчас мы проходим поворотную точку. Можно не сомневаться, что экономические историки будущего смогут блестяще обосновать, почему начало слома системы доллара произошло в середине 2020-х. Но пока серьезных оснований для вывода о скором крахе доллара нет. Тем более не стоит ждать его замещения юанем.