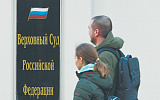Суды поддерживают принцип, что сперва потерпевший должен таковым стать, а уже потом давать отпор обидчикам.
Фото Сергея Вдовина/PhotoXPress.ru
Суды поддерживают принцип, что сперва потерпевший должен таковым стать, а уже потом давать отпор обидчикам.
Фото Сергея Вдовина/PhotoXPress.ru
Институт необходимой самообороны нуждается в совершенствовании, но пока это осуществляется точечными судебными решениями. Например, недавно Верховный суд (ВС) поддержал право на самооборону гражданина, которому угрожали дубинками. Однако, по словам экспертов, правоприменителями не выработан твердый подход к оценке обоснованности применения обороны, из-за чего случаи оправдания защищавшихся от налетчиков остаются единичными.
По словам юристов, следствие и суды не хотят разобраться, чем отличается самозащита от нападения. Они негласно придерживаются принципа, что условный потерпевший должен сперва дождаться, когда ему нанесут серьезные телесные повреждения, и только в ответ нанести серьезный урон нападавшему.
В результате нередко под уголовную ответственность подпадают вовсе не злоумышленники, а как раз те, кому пришлось отбиваться. Как было и в конкретном деле, когда, как следует из материалов, «потерпевшие ворвались в дом фигуранта с резиновыми дубинками и избили его знакомого, осужденный в ответ нанес удары ножом». Суд первой инстанции указал, что хотя поступок оборонявшегося и носил ответный характер, но он «избрал несоразмерный интенсивности нападения способ защиты» и тем самым превысил пределы необходимой обороны. А вот апелляция сочла, что повода говорить о самообороне у мужчины и вовсе не было. В итоге его признали полностью виновным в умышленных убийстве и покушении.
Но ВС с таким подходом не согласился. Он указал, что, исходя из установленных обстоятельств, «нельзя сделать однозначный вывод, что на момент применения обвиняемым ножа конфликт был исчерпан и его жизни и здоровью уже ничего не угрожало». Потерпевшие ворвались в чужой дом, вели себя дерзко и провоцировали конфликт, то есть «ими было совершено общественно опасное посягательство с применением насилия». К тому же п. 8 постановления пленума ВС РФ от 2012 года (о пределах допустимой самообороны) предписывает судам учитывать эмоциональное состояние оборонявшегося, чего в данном случае не сделала проверочная инстанция. «Действия потерпевших на тот момент осужденный мог воспринимать как угрозу посягательства и опасаться осуществления этой угрозы. Поскольку о ее реальности свидетельствовало только что примененное насилие», – заключила вышестоящая инстанция, отпуская фигуранта из-под стражи и направляя его дело на новое рассмотрение.
Есть и другой похожий пример из практики ВС: супруга ударила ножом мужа, когда тот ее душил, а следствие квалифицировало это как превышение пределов необходимой обороны только лишь по формальным признакам. Ведь у супруга не было орудия, так что удар ножом следствие посчитало превышением, якобы голыми руками тот не мог причинить значительный вред здоровью жены. Но вышестоящая инстанция подтвердила, что превышения пределов необходимой обороны не было.
По словам экспертов «НГ», подобного рода тонкости, касающиеся квалификации необходимой обороны, ее пределов, превышения, ее отдельных критериев, довольно подробно прописаны в разъяснениях Верховного суда и считаются обязательными для правоприменения. Проблема в том, что делается это далеко не всегда правильно.
Как отметил в разговоре с «НГ» партнер ЮК «Соничев, Казусь и партнеры»Антон Соничев, разъяснения ВС, подтверждающие право гражданина на самооборону при избиении дубинками, хоть и показывают тенденцию к более гибкому толкованию норм о необходимой обороне (ст. 37 УК РФ), однако «остаются точечными, а не системными». При этом четкие критерии пределов необходимой самообороны «как отсутствовали, так и отсутствуют». Ст. 37 УК РФ хоть и говорит, что оборона допустима, если не было явного несоответствия способов защиты характеру нападения, но что считать «явным несоответствием»? Если нападающий без оружия, но сильнее физически, можно ли применять нож? Или если, допустим, угроза была реальной, но не успела реализоваться, как оценивать действия обороняющегося? Если нападающих несколько, но они также без оружия, может ли обороняющийся его применить?
Зачастую, по его словам, правоохранительные органы и суды оценивают последствия, а не ситуацию в момент нападения: если, к примеру, нападавший погиб, обороняющегося могут осудить, даже если угроза была реальной. Или если жертва обороны получила тяжкие травмы, суды также склонны квалифицировать это как превышение пределов. Сам Соничев считает, что регулирование закона о необходимой обороне давно пора начать хотя бы с введения принципа «мой дом – моя крепость», когда обороняющийся в своем жилище не должен задумываться о том, как минимизировать вред нападающему. Но не похоже, что даже такие изменения возможны в нынешних реалиях, «это кардинально отличается от правоприменительной практики, в 99 ситуациях из 100 людей попросту сажают за самооборону», посетовал эксперт.
Как говорит старший юрист Criminal Defense Firm Екатерина Харченко, сами по себе законодательные нормы о самообороне изложены достаточно удачно, так что важнее их применение. Проблема, «как это обычно и бывает, кроется в подходе правоприменительных органов». Например, даже если суд склоняется в сторону квалификации содеянного как убийства при превышении пределов необходимой обороны, что, кстати, само по себе является серьезным обвинением и пятном на репутации человека, несмотря на сравнительно небольшое наказание, органы прокуратуры по своим причинам готовы продолжать сражаться за обвинение в убийстве – без учета обстоятельств, исключающих преступность деяния. В результате мы и получаем дела, в которых суды могут одному и тому же человеку назначить в качестве наказания и ограничение свободы, которое по своей сути может ничем не отличаться от нахождения под подпиской о невыезде в одной инстанции, и лишение свободы на срок свыше 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима в другой инстанции.
Харченко отметила, что и ВС РФ выработал вполне ясные критерии для оценки всего многообразия каждой такой ситуации. «Но формальный подход, подпитываемый загруженностью судей, и открытое равнодушие, которое проявляют в том числе правоохранительные органы по отношению к реалиям того, при каких сложных обстоятельствах может быть причинена смерть или тяжкий вред здоровью, продолжают препятствовать защите конституционных прав граждан от уголовного преследования. Даже когда на них нападают в их собственных домах», – подытожила собеседница «НГ».
Партнер КА Pen & Paper Алена Гришкова также подтвердила «НГ» – количество судебно-следственных ошибок, связанных с неправильным применением института необходимой обороны, остается достаточно большим.
«Широкая дискреция суда при квалификации необходимой обороны, обусловленная большим количеством оценочных категорий в ее нормативном регулировании, коррелирует с большим количеством судебных ошибок по данным уголовным делам», – отметила собеседница «НГ». Несмотря на то что постановление пленума ВС РФ разъясняет отдельные критерии необходимой обороны, «они не дают указания, как конкретно их учитывать применительно к фактическим обстоятельствам», поэтому суды в более сложных и нестандартных делах допускают ошибки. «Этим обусловлено большое количество решений судебной коллегии по уголовным делам, где ВС исправляет ошибки нижестоящих судов и приводит приговоры в соответствие с определенными им правовыми подходами», – пояснила она.
В целом, как подчеркнула Гришкова, дела по необходимой обороне остаются одними из самых сложных, спорных и резонансных. Это связано с тем, что в отсутствие устоявшейся судебной практики до сих пор отсутствует представление о четких границах необходимой обороны. «Анализ судебной практики показывает, что наиболее распространены ошибки, связанные с установлением характера посягательства, опасного или неопасного для жизни обороняющегося или другого лица, а также соответствия защиты характеру и опасности посягательства». А ошибки в выводах относительно характера и опасности нападения приводят к неправильной квалификации действий защищающегося лица. Другой распространенной судебной ошибкой является неправильная оценка состояния обороняющегося лица, его сил и возможностей. «Суды попросту не учитывают, что обороняющийся не всегда может соизмерить ответные действия с угрожающим вредом, поэтому причинение большего вреда не признается преступлением, если было осуществлено в состоянии душевного волнения, вызванного посягательством», – подчеркнула собеседница «НГ». При этом она напомнила, что в уголовном праве ряда стран отсутствует понятие превышения пределов необходимой обороны. Его нет, к примеру, в УК Бельгии, Германии, Голландии. Удачным она считает определение, данное в УК Республики Казахстан, где превышение пределов необходимой обороны признается «только при наличии явного несоответствия защиты характеру посягательства». А например, в Уголовном кодексе ФРГ существует понятие «извинительной» необходимой обороны, которая исключает не противоправность, а виновность – проще говоря, это когда человек, превысивший пределы обороны «из-за замешательства, страха или испуга», не подлежит наказанию.