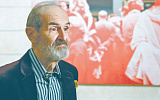Мемориал в фойе Большого театра. Фото РИА Новости
Мемориал в фойе Большого театра. Фото РИА Новости
Не стало Родиона Щедрина. Композитор прожил долгую жизнь – ему было 92 года. Долгую и, как кажется, счастливую.
Щедрин был блистательно образован, он окончил Московскую консерваторию по трем специальностям – как пианист, теоретик и композитор. Кроме того, он несколько лет занимался в хоровом училище, и особое ощущение хорового пения станет одним из кирпичиков в фундаменте его творчества. Он точно почувствовал дух своего времени – или же попал в него, не пытаясь подстроиться. Эксперимент – то, чем занимались его ровесники Шнитке, Денисов и Губайдулина, подвергнув себя анафеме профессионального сообщества, – не был его стезей. Но, повторим, Щедрин не был тем, кто отвергал другую эстетику, напротив, знал и понимал все, чем занят композиторский мир. И сам – в свойственной ему экспрессивной и юмористической манере – использовал. Без насмешки, но с позицией: так додекафонию и алеаторику во Втором фортепианном концерте сменяет барочная ария (традиция) и джазовые импровизации.
Москвич, в консерватории он стал ездить в фольклорные экспедиции и открыл для себя мир русской деревни: людей, уклад их жизни, и вместе с этим – народную песню, из которой выделил частушку. Частушка станет появляться в первых его крупных сочинениях – Первом фортепианном концерте, например, или в опере «Не только любовь», где Щедрин не просто поэтизировал низкий жанр, а парадоксальным образом вывел его в трагическом изводе: чувства Варвары Васильевны совсем не примитивны, как может показаться на первый взгляд, хорошие артистки поднимают свою героиню до уровня Катерины Измайловой.
Как и его современники, Щедрин был истинным шестидесятником, собственно «Не только любовь» – об этом: о том, как зажатые в тиски послевоенного времени люди пытались дать голос и волю своим чувствам. На другом полюсе – «Поэтория» на стихи Андрея Вознесенского, с фигурой поэта в центре и, кстати говоря, с использованием полузапретных авангардных техник музыкального письма.
В этом сочинении, пусть и площадно, поднимаются темы, которые для Щедрина станут основными: поиск пределов нравственности, праведности, святости, с одной стороны, связанных с верой, с другой – с человечностью. Кажется, темой было не обретение бессмертия, а живая душа – как здесь, на земле, не потерять себя. Чтобы обрести жизнь вечную. Нельзя не сказать о Лескове, которого Щедрин ценил необычайно и по прозе которого написал три крупных сочинения – литургию «Зачарованный ангел» и две оперы – «Очарованный странник» и «Левша». Выходец из семьи священников, он будто «в подкорке» держал религиозные жанры, и в этом смысле и «Поэтория», и «Левша» – щедринские Страсти. И даже в каком-то смысле «Лолита», которая заканчивается небесной колыбельной: в отличие от Набокова в драматургии оперы Щедрина нет амбивалентности, его Гумберт Гумберт однозначно виновен.
По части музыкально-театральных жанров Щедрину не было равных: безудержная фантазия, понимание музыкальной драматургии и чувство оркестра открывали ему путь на сцену. Заменить скрипки в оркестре хором и народными голосами – и вот гоголевская Русь в «Мертвых душах», жалейки, свирели и разве что не гвозди – тембровый мир «Левши» и т.д. Композитору повезло – с момента первого балета все его опусы шли на лучших сценах. Премьера первого балета «Конек-Горбунок» прошла на сцене Большого, последней оперы «Рождественская сказка» – в Мариинке. К композитору Щедрину сама судьба была щедра: его друг Валерий Гергиев осуществил постановки практически всех музыкально-театральных сочинений на сцене Мариинского театра. Все они до сих пор в репертуаре, хотя и не так часто играются.
Десять лет назад не стало Майи Плисецкой. Это была одна из самых красивых пар Москвы. Уже в 2000-х на премьерах его сочинений они появлялись всегда вместе. Только входили в ложу, в Москве ли, в Петербурге – все начинали аплодировать Майе. Казалось, Щедрина это не смущает, он сам порой поддерживал зрителей. Но в конце все внимание зала – и супруги – было направлено на него.