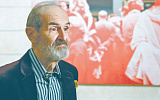Фото агентства городских новостей "Москва"
Фото агентства городских новостей "Москва"
Поколение, от которого ждали новых художественных свершений в 1990-е, уходит. Тихо скончался режиссер и педагог Миша Мокеев в начале этого года. Мартиролог потерь продолжил Борис Юхананов. Известие быстро облетело театральный мир, и многие, включая тех, кто знал, что Боря тяжело болел, все равно ощутили его уход как внезапный.
Казалось, что-то самое главное и самое существенное еще впереди, что вот-вот – и случится нечто итоговое, над чем трудились всю жизнь.
Но есть художники, которые живут во власти процесса, а не оформления идей в законченную форму. Можно возразить: а разве спектакль не есть законченная форма? Конечно, да, но не театр с последовательно осуществляемой программой.
Борисом Юханановым управляла мысль о человеке, о мироздании, о Боге. Его спектакли, собственно, и были переживанием, точнее, проживанием той или иной идеи. Одними он увлекался более и засиживался на них годами, как, например, случилось с проектом «Сад», – им поставлено девять версий. Я видела две. Одну – с людьми с синдромом Дауна, которые играли «Вишневый сад», а другую – уже с профессиональными актерами. Причем видела этот чуть ли не шестичасовой спектакль в Центре Рудольфа Штайнера под Лондоном, в Эммерсон Колледже, в котором режиссер Володя Байчер проводил Школу Михаила Чехова. Многие из участников, приехавших из разных стран, были ошеломлены увиденным. И после спектакля пытали меня, просили рассказать о Борисе, его методе. Были и те, кто совсем не принял его работу. В их числе – Олег Ефремов, который приехал также на эту школу. На спектакле я сидела аккурат за ним. Посмотрев минут 15 на действие на сцене, он спросил своего спутника: «Это что, капустник?» Тут уж повеяло даже не конфликтом отцов и внуков, а пропастью поколенческого непонимания.
Для Юхананова спектакль оставался открытой формой, которую он, кажется, любил пересоздавать, поскольку новые мысли, новые идеи жаждали своего применения.
Беседовать с ним о театре, об увиденном спектакле было всегда не просто интересно, а содержательно значимо. Особенно когда наступил период, в котором безответственные суждения, не выверенные ни знаниями, ни опытом, стали печальной нормой. Ученик Анатолия Васильева, он во многом был птенцом гнезда «Школы драматического искусства». Урок, что театр никого не обслуживает, ни зрителя, ни актеров, а есть значимое место силы идеи, Борис усвоил от своего мастера.
Как-то в 1990-е он пригласил меня на лабораторию в «Школу драматического искусства», в которой его ученики разрабатывали пиранделловскую технику сценического воплощения темы театра и жизни, игры, способной ввести в смятение, поскольку ты уже не понимал, где быль, а где вымысел. После занятий мы с ним говорили на эти умные темы, и я восхитилась его отточенными, глубокими, интересными формулировками. На что он мне сказал: «У меня дед был раввин».
Жизнь для Бориса была поводом для мысли. Кажется, он никогда не спешил, не опаздывал, не кричал и не ругался, не проявлял темперамента. Обретение мудрости не терпит суеты.
В своей театральной работе с людьми с синдромом Дауна и с больной церебральным параличом Оксаной Великолуг в своих ранних постановках он искал Промысла. Он не боялся идти в эту сторону, видя в этих людях других, и мужественно стремился распознать послание Вселенной.
Повесть о прямостоящем человеке (так называлась когда-то его постановка) Борисе Юхананове еще напишут его соратники, ученики. Но место мудреца опустело. Остается благодарная память.