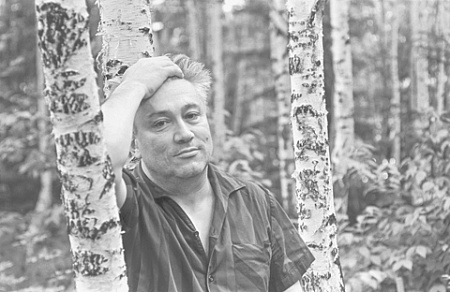 Не писать он не мог, несмотря на то что порой ненавидел слова, которые переносил на бумагу.
Фото Михаила Трахмана из Главархива Москвы с сайта www.mos.ru
Не писать он не мог, несмотря на то что порой ненавидел слова, которые переносил на бумагу.
Фото Михаила Трахмана из Главархива Москвы с сайта www.mos.ru
Я не буду писать о «Дневнике» Юрия Нагибина, беспощадном по отношению к литераторам-современникам (Симонов, Евтушенко, Лимонов). Ко всему человечеству («люди испоганились и обмельчали до предела: трусливые, холодные, завистливые, алчные, источающие злобу, насквозь пустые»). Но более всего – к себе («Моя душа заросла плющом, мохом, дроком и другими душащими растениями, которые от века символизируют запущенность, забвение, пустоту вечности. Что со мной сталось? Ранний склероз? Усталость мозга от дурной, мелкопорочной жизни? Или жалкая удовлетворенность полууспехом?»
С безжалостным самоанализом, доходящим до самоуничижения, и с беспощадной диагностикой советской действительности, в которой жил. Я не буду приводить его размышления о тяжкой участи поэтов («тяжка судьба поэтов всей земли, но горше всех – певцов моей России»), не желавших петь вместе с хором, правоту которых подтверждает лишь пуля, петля, лагерь (Гумилев, Цветаева, Мандельштам) или арест и высылка (Бродский). Я не буду писать обо всех его шести женах от Марии Асмус до Беллы Ахмадулиной, о его загулах и пьянках, которые сменялись адским запойным трудом («Я выбит из колеи резкой сменой жизненного ритма. Раньше я жил крутым чередованием пьяных загулов и неистово напряженной работой. Сейчас я не пью, я не прерываю будничного течения жизни мощью хмельного забвения, я все время с самим собой, со своим трудным, мучительным характером, со своей неудовлетворенностью и вечным ощущением неравенства тому, чем я должен быть»).
О многом упоминал на страницах «НГ-EL» (02.04.15) его издатель Юрий Кувалдин («Книжный сад», 1996).
Меня больше всего интересует, как мальчик из интеллигентной московской семьи стал писателем. И не просто писателем, а, пожалуй, одним из самых известных и читаемых в 1970–1980-х годах. И как сложился его творческий путь.
Сильнее всех других желаний
Он работал во всех литературных жанрах. Не раз обращался к жизни своих предшественников – великим русским и зарубежным писателям и поэтам, музыкантам и композиторам от Пушкина до Платонова, от Чайковского до Рахманинова, от Шекспира до Хемингуэя, от Баха до Рихтера. Это они – вечные спутники, сопровождают нас на всем протяжении жизни, это их произведения мы постоянно перечитываем и слушаем вновь и вновь, открывая для себя новые смыслы.
В 1984 году напишет повесть «Сильнее всех иных велений» о князе Юрии Голицыне, одном из самых необычных воспитанников Пажеского корпуса, известном остроумце своего времени, сорванце и донжуане, блистательном камергере, друге опального Герцена, для которого сильнее всех велений стало посвятить свою жизнь музыке и создать хор, со временем прославившийся не только в России, но и в Европе и Америке, из песен которого «вставал народ – старинный, недавний, нынешний… с загадочной способностью оставаться самим собой, в собственном достоинстве, как его ни мяли, ни корежили».
Сильнее всех желаний автора этой исторической повести оказалось желание стать писателем.
Начало пути
В 1988 году в «Автобиографии» он расскажет, как пришел к этому занятию, которому посвятит всю свою жизнь: мать Ксения Каневская и отчим, прозаик и критик Яков Рыкачев надеялись, что из него выйдет инженер или ученый, но точные науки не давались, гонять мяч по футбольному полю увлекало больше. Матери, «невероятной красавице» дворянских кровей, волевой, умной и образованной, виделось другое будущее сына. И под ее влиянием отчим убедил пасынка что-нибудь написать.
Он написал.
Ученик 9-го класса ничего лучшего не придумал, как рассказать об одной из своих лыжных прогулок. Рассказ был по-ученически неумел и беспомощен, но через много лет, уже будучи опытным и зрелым писателем, Нагибин скажет: «Этот первый литературный опыт… был он очень слаб. И все же писание захватило меня».
Захватило так, что не писать не мог, несмотря на то что порой ненавидел слова, которые переносил на бумагу.
Отчим отнесся к сочинению скептически – посоветовал лучше играть в футбол. Но желание стать писателем и впрямь оказалось «сильнее всех велений» – он советом пренебрег (в скобках заметим – и правильно сделал), белый лист манил к себе больше, чем футбол, и он продолжал скрести пером.
Постепенно пришло понимание, что «писание – это постижение жизни». И уже будучи признанным мастером психологической прозы Нагибин скажет: «…я с полным основанием считаю, что уже в первой попытке определился мой столбовой литературный путь: не придумывать, а идти впрямую от жизни» (там же) и что «литература всерьез – это радостный плач о прекрасном и горестном мире, который так скоро приходится покинуть...».
В прекрасном и горестном мире
Молодой автор испытывал сильное влияние Андрея Платонова, бывавшего в их доме в Армянском переулке, и долго ему подражал. Позже вспоминал, что отчим в первые годы работы выправлял Платонова из его фраз. Любовь к Мастеру осталась на всю жизнь – слова позднего Нагибина о «прекрасном и горестном мире» рифмовались с названием рассказа Платонова «В прекрасном и яростном мире» (1941) о трагической судьбе машиниста паровоза Мальцева. Рассказ заканчивался фразой: «Я боялся оставить его одного, как родного сына, без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира».
Вот об этом мире – «яростном, горестном и прекрасном» всю жизнь и будет писать Юрий Нагибин, начиная с первого опубликованного за год до войны в «Огоньке» рассказа о судьбе бьющегося со словом начинающего писателя (за главным героем явственно проступала тень автора) – «Двойная ошибка».
Но это еще были только подступы к литературе – в литературу он войдет в 1943-м, когда первый – всего 104 страницы – сборник рассказов «Человек с фронта» напечатает издательство «Советский писатель».
На войну пойдет добровольцем, у его поколения воевать или не воевать с Германией вопроса не было. Хотел на передовую – направили в отдел контрпропаганды Политического управления Волховского фронта, в комиссариате решили, что хорошо знавший немецкий язык студент ВГИКа там будет нужнее.
Служить начал инструктором в 7-м отделе (контрпропаганда) – готовил материалы для выходившей на немецком языке «Фронтовой солдатской газеты»; садился за микрофон армейской радиостанции, «разлагая» солдат противника.
О войне напишет несколько книг рассказов – «Большое сердце», «Две силы» (оба – 1944), «Зерно жизни» (1948), но книги эти были довольно слабыми и прошли незамеченными.
Открытие Нагибина
Читатель и критика заметят писателя после рассказов «Зимний дуб» и «Комаров» (1953), «Четунов» (1954), «Ночной гость (1955).
Откроет – как тонко чувствующего художника – после «Павлика» (1959) – повести о дружбе и предательстве, повести о нравственном выборе двух друзей – склонного к компромиссам Юры и неспособного на сделки с совестью Павлика.
В первые же дни войны Павлик уходит на фронт, Юру признают к армейской службе негодным; один отказывается сдаться в плен и погибает, другой не может избавиться от не проходящего чувства вины даже через четверть века после войны: «Я перебираю свою жизнь… и не нахожу вины за собой, вины… Нет. Виноват. Виноват во всем: в том, что не отдал своей жизни за друга, не спас, не защитил миллионы погибших, виноват в тюрьмах и лагерях…; в том, что правда ходит с поджатым хвостом, а ложь и клевета – задрав голову… Не надо отрицать своей вины, мы все виноваты друг перед другом и во сто крат сильней – перед мертвыми. И надо все время помнить об этой своей вине, – быть может, тогда исполнится самая святая мечта из всех доступных человеку: вернуть к жизни ушедших…»
Вернуть ушедших и воскресить прошедшее писатель Нагибин мог только в слове. Что он и делал в своих рассказах о детстве, о Москве, в книгах «Чистые пруды» (1962), «Книге детства» (1968–1975) и «Переулки моего детства» (1971).
Чистые пруды
В эти годы Москва займет в его творчестве особое место – здесь на Чистых прудах пройдут школьные годы, здесь он встретит свою первую и единственную юношескую любовь Нину Варакину, как это чаще всего и бывает, любовь неудачную, память о которой он пронесет через всю жизнь.
Нина жила в том же Телеграфном переулке, где и он, по одним и тем же улицам они вместе ходили в школу. В красивую девочку влюблялись и другие ребята, он за свою любовь дрался до первой крови.
Чистые пруды, как напишет Нагибин через всю жизнь, это «средоточие самого прекрасного, чем было исполнено мое детство, самого радостного и самого печального, ибо печаль детства тоже прекрасна».
Чистые пруды – это и юность, и молодость, и война.
Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне
очнулось!
– писал поэт Давид Самойлов, принадлежавший к этому же поколению.
У Нагибина очнулось в 1960-х – Чистые пруды в его прозе станут символом памяти, тоской по утраченному детству, по ушедшей довоенной Москве с ее дворами, улочками и переулочками, цветущими садами и старинными церквами.
Здесь кроются истоки духовного формирования тех ребят, родившихся в 1920-х, которые, как писал другой поэт из этого поколения Николай Майоров, ушли на фронт «не долюбив, / Не докурив последней папиросы».
Нагибин был в своих рассказах исповедален, до боли искренен и естественен, его слог был до прозрачности ясен и легок, интонации сокровенны и доверительны, и именно этим и был вызван читательский успех его прозы.
О Москве он будет писать и в более поздние годы. В книге «Как много в этом звуке» напишет: «Тема Москвы проходит через всю мою литературную жизнь… В моих биографических циклах «Чистые Пруды» и «Книга детства» Москва не столько среда, в которой действуют юные персонажи, сколько главный герой» (1967). А в «Книге о Москве» (2010) проведет читателя по своим любимым местам – Армянскому переулку, Ильинке, Варварке, расскажет не только о жизни старинных особняков, но и о жизни людей, когда-то в них обитавших.
Мещера
А затем начнется увлечение другим миром, один из друзей возьмет его с собой в Мещеру на утиную охоту, и он, коренной москвич с Чистых прудов, восхитится ее природой, откроет для себя мир сосновых лесов, заливных лугов, непроходимых, покрытых мхом и осокой, болот, быстрых в течении рек и прозрачных до небесной синевы озер, где местные собирают ягоду, ловят рыбу, ходят на кабана и охотятся на куропаток и перепелов.
С тех пор Мещера войдет в его жизнь и творчество. Впечатления от поездок, от разговоров с обитателями этих мест, с которыми он ходил на охоту, лягут в основу так называемого Мещерского цикла: сборников рассказов «Погоня. Мещерские были» (1963), «Зеленая птица с красной головой» (1966). На которые откликнется Виктор Астафьев: «Мещерский цикл – очень хорошая проза».
От себя замечу – в рассказах «Испытание», «Последняя охота» и других он проявит себя художником, тонко чувствующим природный мир, следующим традициям классической русской литературы, восходящей к тургеневским «Запискам охотника» и бунинским «Антоновским яблокам».

|
|
Пожалуй, одним из самых лучших его фильмов того времени был «Председатель». Кадр из фильма «Председатель». 1964 |
В советской литературе 1980–1990-х годов было несколько ведущих направлений – молодежная проза, в которой работали Анатолий Гладилин, Василий Аксенов, Борис Балтер; городская, которую представляли Юрий Трифонов, Владимир Маканин, Андрей Битов. Пользовалась успехом так называемая «лейтенантская проза» – у всех на слуху были честные, рассказывающие правду о минувшей войне повести Василя Быкова, Григория Бакланова, Владимира Богомолова. И деревенская, постоянно писали о деревне Федор Абрамов, Борис Можаев, Василий Шукшин. Критика пыталась найти место Нагибину, но он не вписывался ни в одно из этих течений: после первых произведений о войне больше к этой теме не обращался, типично городским или деревенским писателем назвать его было трудно – он не укладывался в тогдашние традиционные схемы и представления о литературе и не был привязан только к одному-единственному жанру; его стиль не поддавался точной классификации, его герои были близки читателю и психологически понятны, он мастерски выстраивал диалоги, с точностью скульптора, отсекая все лишнее, лепил характеры своих героев – писал о времени и о людях, проживающих свою единственную жизнь в этом времени, без пафоса, восторженности и декларативности.
В эти годы он был необычайно популярным писателем, книги мгновенно раскупались, за журналами «Огонек» и «Новый мир», где были опубликованы рассказы «Срочно требуются седые человеческие волосы» и «Терпение» (по этим рассказам были сняты фильмы «Поздняя встреча» и «Время отдыха с субботы до понедельника»), в которых Нагибин исследовал суть человеческих отношений своих современников в годы так называемого развитого социализма, в библиотеках записывались в очередь. С подобным библиотекари не встречались со времен публикации повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» в 1962 году.
От «Бабьего царства» до «Чайковского»
Одновременно он продолжал работать в кино, в которое пришел в середине 1950-х, работал много, иногда корил себя за халтуру («Дневник», запись от декабря 1966: «Мне надо всерьез оздоровить отравленный кинохалтурой организм»), но так или иначе во второй половине века не окончивший ВГИК Нагибин стал одним из самых востребованных сценаристов – на протяжении нескольких десятилетий одна за другой на экран выходят картины «Председатель» – в 1964-м, «Бабье царство» – в 1967-м, «Директор», «Красная палатка», «Чайковский» – в 1969-м, «Дерсу Узала» – в 1975-м, «Детство Бэмби» – в 1985-м, «Юность Бэмби» – в 1986-м, «Гардемарины, вперед!» – в 1987-м.
Пожалуй, одним из самых лучших его фильмов того времени был «Председатель», рассказывающий о послевоенной деревне, фильм, за который он был подвергнут жесткой партийной критике еще во время съемок – Нагибина, позволившего себе выйти за рамки дозволенной в те времена правды, обвинили в клевете на советских колхозников, он слег с инфарктом, но фильм через год все-таки вышел в прокат и даже покалеченный цензурой резко отличался от картин тех лет, только за первую неделю его посмотрели примерно 7 млн человек. В то же время взошла звезда Михаила Ульянова, сыгравшего главную роль Егора Трубникова.
Если в «Председателе» шла речь о трудном восстановлении деревни, то в «Директоре» шла речь о создании первого советского автомобиля. На съемках произошел трагический случай – разбился один из самых популярных актеров того времени Евгений Урбанский. Дальнейшие съемки были запрещены, но через два года Госкино разрешило переснять фильм. Главную роль легендарного директора Московского автозавода Ивана Лихачева сыграл молодой Николай Губенко.
Как сценарист Нагибин работал с такими крупными режиссерами советского кино, как Алексей Салтыков, Игорь Таланкин, Михаил Калатозов. А в фильме «Дерсу Узала» – с выдающимся японским режиссером Акирой Куросавой. Картина была признана всем миром, удостоена ряда профессиональных престижных кинопремий, в том числе в 1975 году Золотого приза Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) и в 1976-м премии «Оскар» за лучший иностранный фильм, показанный в США.
На переломе
На переломе 1980–1990-х распадалась связь времен, почва уходила из-под ног, страна стремительно менялась, люди приспосабливались к новой действительности.
Изменился и писатель Юрий Нагибин, прежние темы и мотивы ушли в прошлое, он все больше и больше в своих новых произведениях анализировал себя и жизнь, которую прожил. В повести «Встань и иди» (1987), повести-исповеди, повести-покаянии, рассказал об истории жизни своего отца, «врага народа»; в повести «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя (1994)» – о жизни с первой женой, его первой взрослой любовью, на фоне времен «культа личности» и «оттепели»; в «Дневнике» (1996), откровенном и еще раз повторю – до боли беспощадном к себе и своим литературным современникам, – о времени, в котором выпало жить и работать.
Его завещанием стала последняя книга-исповедь, жесткая и бескомпромиссная, пронизанная пессимистическими мотивами «Тьма в конце туннеля», которая вышла уже после смерти.
«Старый» читатель не принял нового Нагибина.
Новый узнавал его таким, как он представал в своих последних книгах.
Но каким бы он ни был, Юрий Нагибин остался в литературе одним из лучших мастеров психологической прозы.
Не каждому дано.


























комментарии(0)