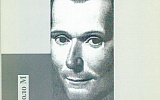Первую известность Василю Быкову принесла повесть «Третья ракета». Мало кто знает, что создавалась она под впечатлением «лейтенантской прозы» Григория Бакланова. Начинал Быков ее писать в Гродно, работая в редакции газеты «Гродненская правда», а завершал на военных сборах в Новогрузке: «…как только наступал полдень и солдаты ложились спать по обычному распорядку, – вспоминал он на склоне лет, – я бегал в тихий уголок солдатской курилки и писал карандашом в блокноте». На белорусском языке эта повесть была опубликована в начале 1960-х годов в минском журнале «Маладосць». А на русском языке в переводе Михаила Горбачева она впервые была напечатана в феврале 1962 года в журнале «Дружба народов», который в ту пору редактировал Василий Смирнов.
После возвращения с военных сборов Быков написал еще несколько вещей, которые также взялся перевести Горбачев. И одну из них – рассказ «Четвертая неудача» – писатель и переводчик отдали в московский журнал «Юность». И вновь удача. Рассказ без промедления ушел в набор. А по выходу сигнального экземпляра журнала главный редактор «Юности» Борис Полевой написал в Гродно: «Дорогой тов. Быков! С удовольствием опубликовали Ваш рассказ «Четвертая неудача». Эта неудача несомненно является Вашей удачей, с которой мне хочется Вас поздравить. Если у Вас окажется что-то еще, что по Вашему мнению могло бы интересовать читателей «Юности», милости прошу к нам, еще раз в наш журнал».
Быков таиться не стал. Он признался: «что-то еще» у него уже было на подходе. И вскоре писатель направил в редакцию «Юности» перевод повести «Западня». В основу этой вещи Быков положил конфликт, который произошел сразу после неудачной атаки одной из занятой немцами высоты между командиром роты автоматчиков Орловцем и командиром взвода Климченко. Желая доказать свою правоту, Климченко во время следующей атаки необдуманно оторвался от взвода и попал в плен, где его пытались склонить к предательству.
Первым в редакции повесть Быкова прочитал ответственный секретарь журнала Леопольд Железнов. Это был человек с очень сложной судьбой. В молодости на его газетный дар обратила внимание сестра Ленина – Мария Ульянова, а потом ему поручили писать программные речи для одного из ближайших соратников Сталина – Сергея Кирова. Когда началась война, он в качестве военкора ушел на фронт. Но в 1949 году по делу Еврейского антифашистского комитета арестовали и расстреляли его первую жену. После этого Железнова как подменили. В него вселился страх. Он стал донельзя осторожен.
Железнов признал талант Быкова: «Острый сюжет и суровая правда войны, пронизывающая всю повесть, – отметил он в апреле 1964 года в своем отзыве, – держит читателя все время в напряжении. Характеры людей написаны точно, ярко, жизненно». Так и отправлял бы Железнов рукописи Быкова в набор. Но он испугался. А правильно ли эту вещь белорусского автора поймут в высоких инстанциях? Поэтому Железнов предложил не просто что-то подправить в рукописи, а, по сути, всю ее переписать.
«Но автору надо посоветовать, – написал Железнов в своем заключении, – изменить ситуацию в конце повести. Особист, появляющийся на исходном рубеже роты перед самой атакой, словно джин из бутылки, мне лично представляется совсем не обязательным персонажем. Могло ли так быть в действительности? Вероятно, могло – на войне всякое бывало. Но выглядит это очень нелепо. Перед самой атакой вряд ли особист стал бы арестовывать командира взвода, даже вернувшегося от немцев. Он успел бы это сделать и после боя. К чему такая поспешность? А ведь дальше в повести, после самоубийства командира взвода, особист пытается арестовать и командира роты. Это уж совсем непонятно: кто же будет руководить боем на участке наступления роты? Ведь это может сорвать выполнение боевого приказа, полученного от вышестоящего командира и связанного с действиями соседей. Нет, тут что-то надо сделать! Если на протяжении всей повести веришь каждому слову автора, то в конце – это чувство тебя покидает. И еще: как-то надо связать концы с концами в отношении Чернова, русского, оказавшегося немецким офицером. Немцы могли использовать предателя Чернова на любой работе (ну, например, в качестве переводчика!), но не стали бы делать его своим офицером. Может быть, наделить Чернова какой-то более или менее типичной биографией: человек русского происхождения, живший в Германии, давно принявший немецкое подданство – и т.д. Но это, разумеется, воля автора. Вообще же, мне очень хочется увидеть эту повесть в «Юности» (с переделанной концовкой)».
После Железнова рукопись Быкова прочитал заместитель главного редактора журнала «Юность» Сергей Преображенский. Это был тертый калач. Зря, что ли, его в свое время инстанции приставили к генсеку Союза советских писателей Александру Фадееву (в качестве помощника). Но Преображенский при всем том не был типичным функционером. Он имел чутье на таланты, знал, как пробивать таланты в цензуре и партаппарате, и не боялся рисковать. Попутно развею один миф. Сложилась легенда, что поколение «звездных мальчиков» открыл и пробил в нашей литературе первый главный редактор «Юности» Валентин Катаев. Это не совсем так. Катаев в «Юности» в основном представительствовал. Аксенова, Гладилина, Кузнецова первым открыл и поддержал зам. Катаева – Преображенский.
Преображенскому тоже повесть Быкова «Западня» понравилась. Но и он со своими связями в партаппарате понимал, что в представленном виде повесть цензуру не пройдет. Что в итоге Преображенский предложил? В своем отзыве он написал:
«Я – за публикацию повести «Западня» в «Юности», но при след. условиях:
1) Автор должен поработать над концом повести. Не надо «особиста» делать «типическим» персонажем – пускай это будет вполне конкретный человек, иначе происходит некое «смещение понятий». (Об этом надо поговорить с автором)
2) Редактору надо «пройтись» по всей повести: перевод еще далеко не совершенен».
Окончательное решение должен был принять сменивший на посту главреда «Юности» Катаева Борис Полевой. А ему и хотелось принять повесть Быкова к печати, но, как в таких случаях говорили, мама не велела. Приведу его отзыв полностью. Читаем:
«Необыкновенно яркий автор, сильное перо и вещь читается единым духом. Я был бы рад двумя руками проголосовать за ее публикацию, при условии, если автор изменит конец и тем самым сообщит вещи настоящую концепцию.
Реалистически повесть воспринимать нельзя, слишком много в ней условностей и нереальных натяжек. Совершенно невероятно появление в немецкой армии русского перебежчика Чернова в роли немецкого офицера. Ни один перебежчик немецкую форму не носил. Офицерских погонов тем более. Это закон немецкой армии. Были специальные национальные части СС, носившие особую форму, чаще всего национальную, лишь с немецкими знаками отличия. В дни, когда происходит это действие, Власов еще был генералом на Северо-Западном фронте, а власовцев, естественно, еще не было. Совершенно невероятно, чтобы перебежчик мог как-то влиять на то, как расправляться с пленным. Ложные побеги – устраивались. Даже иногда с ранением, но это производилось лишь в том случае, если нужно было перебросить к нам уже вышколенного агента, и обязательно с разрешения войскового абвера. Переброска по мотивам мести – просто невероятна. Такими детскими игрушками немцы, серьезные люди – не занимались. Погоны с офицера по уставу могут быть сняты лишь по решению дивизионного трибунала, утвержденного членом Военного совета. За самовольное снятие погон, т.е. за лишение офицерской чести, покарают как за самоуправство. Это предусмотрено уставом внутренней службы. Да и не было у героя погон, ведь он с кубиками пошел к немцам.
Словом, реалистически эта повесть не может быть воспринята. Ее можно воспринять как красивую, увлекательную сказку, а у сказок – свой закон: добро побеждает зло, разум – безумие. Рассказывать сказку для того, чтобы сообщить миллионам юношей и девушек о том, что в нашей армии царил произвол, разрушать в них уважение к великому подвигу отцов – не стоит, да и просто нельзя.
Но талантливая эта повесть, несомненно, может быть напечатанной, и с пользой для читателя и журнала, если автор согласится сократить весь конец. Собственно, ничего переделывать не надо. Герой, видя, что ему не верят, с автоматом идет на вражеские окопы, за ним в боевом порыве идет его взвод, и, видя успех этой атаки, капитан, уже подготовивший батальон к наступлению, дает команду наступать. Все это в повести есть. Здесь ставится точка. Таким образом, оказываются втуне все козни Чернова. Сказка обретает свой естественный конец.
И тогда напечатаем ее в одном из самых ближайших номеров».
Но Быков превращать свою жесткую повесть в красивую сказку отказался. К тому же переводчик Михаил Горбачев пообещал ему связаться с редакцией другого журнала – «Огонек». Нельзя сказать, что тогдашние руководители «Огонька» Анатолий Софронов и Михаил Алексеев были в полном восторге от «Западни». Их тоже далеко не все устроило в повести Быкова. Но этим литгенералам уж очень хотелось вставить фитиль враждебной им «Юности». Поэтому они согласились сильно Быкова не править. И вообще «Западню» они стали печатать прямо с колес – с продолжением в пяти номерах.
Когда появились номера «Огонька», многие стали ждать – как на крамольную, по сути, «Западню» отреагирует партаппарат. Но партфункционерам в тот момент, видимо, было не до литературы. В высоких коридорах шли свои игры. Там готовили смещение Хрущева и под ковром проводили кастинги на нового вожака.
Отсутствие публичной ругани восприняли как одобрение верхами «Западни». И тут сразу засуетилась редакция «Роман-газеты». Ее главный редактор Ильенков предложил включить повесть Быкова в план осенних выпусков. Писатель, естественно, постарался эту ситуацию использовать и специально для «Роман-газеты» внес в свой текст существенные и объемные дополнения. Ну а потом режиссер Леонид Мартынюк вызвался снять по «Западне» художественный фильм.