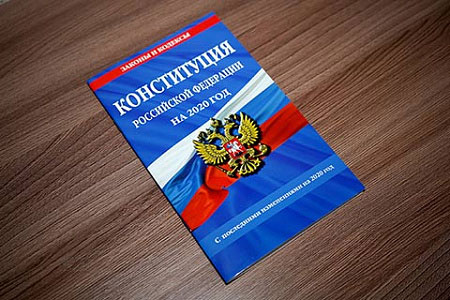 Фото агентства «Москва»
Фото агентства «Москва»
В последние годы много политиков и иных общественных лиц публично призывают к действиям, направленным на искажение духа и буквы Конституции России. Под атаку попали основные конституционные права человека и гражданина, принципы равенства, идеологического многообразия, свобода слова и даже трактовка смысла деятельности государства. Предлагаются различные рукотворные кодексы, уставы, варианты миссии государства, базирующиеся на утопическом взгляде на природу человека, из которого пытаются сделать идеального адепта чьих-то фантастических, а потому нереализуемых воззрений и ценностей. Попытка на нормативно-законодательном уровне закрепить утопические представления о стандарте одобряемых государством установок поведения и устремлений молодых людей часто выглядит как протаскивание запрещенной в нашей Конституции государственной идеологии.
Эти атаки на основы государственного строя России должны твердо пресекаться государством. Однако никто особенно не спешит «одернуть нарушителей». Подрыв этих основ – прямой путь к анархии, хаосу и смуте, губительному ослаблению российской государственности. Поразительно, но именно записные консерваторы и «государственники» чаще всего презрительно относятся к действующей Конституции.
Еще более поразительно то, что идеи, подрывающие основы конституционного строя, исходят от людей, имеющих высшее юридическое образование и давших клятву соблюдать Конституцию России. Большинство из них изучали Конституционное право России в вузе, а депутаты разных уровней, сенаторы и губернаторы должны иметь соответствующий стандартный учебник на своем рабочем столе. Один из самых авторитетных текстов по теме – это «Конституционное право России», имеющий гриф «учебника» для студентов по специальности «юриспруденция», написанный тандемом знаменитых авторов Е.И. Козловой и О.Е. Кутафиным. Пройдемся по главам этого учебника и выделим некоторые интересные мысли.
«Все конституции советского типа были в значительной мере фиктивны. Они провозглашали принципы, которые фактически не осуществлялись в жизни. Это относилось к таким принципам, как принадлежность власти трудящимся, полновластие советов, федеративное устройство России, использование гражданами закрепленных в конституции политических прав и свобод».
А Конституция 1918 года характеризуется как конституция революционного типа. Она была принята в результате насильственного изменения общественного и государственного строя. В ней отвергаются все прежние правовые установления, существовавшие до переворота или революции.
«К специфическим чертам Конституции 1918 года относится то, что ее нормы и положения выходят за рамки внутригосударственного регулирования. Она включает установления, ориентированные на все мировое сообщество, причем установления чисто политического характера. Так, в ст. 3 закреплялось: «Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистической организации общества и победы социализма во всех странах...». В ст. 4 выражена непреклонная решимость вырвать человечество из когтей финансового капитала и империализма.
Следует указать и на такую особенность Конституции 1918 года, как открытое признание применения насилия для утверждения принципов нового, социалистического строя. Эта черта нехарактерна для последующих советских конституций. Так, в ст. 3 Конституции говорилось об уничтожении паразитических слоев общества, о беспощадном подавлении эксплуататоров. Конституция закрепляла насильственное уничтожение частной собственности, допускала ее принудительное безвозмездное изъятие».
Удивительно, но созвучно пафосу Конституции 1918 года мыслят и некоторые нынешние идеологи реакционно-консервативного толка. Ярким образцом современного утопизма является, например, утверждение Сергея Караганова, взявшего на себя ответственность за окончательный текст доклада о кодексе россиянина в ХХI веке, о том, что «Мы – народ-богоносец. Миссия нас и нашей страны – сохранять и развивать лучшее и высшее в человеке, защищать суверенитет стран и народов, оберегать мир». Как же это похоже на цель большевиков эпохи первой Конституции, мечтавших о победе социализма во всех странах с полным подавлением эксплуататоров. Сколько же на пути к этой утопической цели нашему богоносному народу пришлось разрушить храмов и расстрелять священников, сколько уморить в тюрьмах и на лесоповале рабочих, крестьян, военнослужащих и профессоров! Во имя идеи! Чуждой русскому, преимущественно православному народу. Не заметить трансформацию народа-богоносца со времен Достоевского, народа, активно и воинственно в течение 70 лет насаждавшего атеизм на всех уровнях, от октябренка до коммуниста, клявшегося на уставе партии, что он атеист и богоборец, может только удивительный человек. «Доклад Караганова», как сообщил автор, является корневым текстом, на основе которого в дальнейшем будут подготовлены другие научные и публицистические материалы, запланированные в ходе продолжения реализации проекта.
Основу конституционного государства составляют признание им человека, его прав и свобод высшей ценностью, а также социальное рыночное хозяйство, в рамках которого главным образом осуществляются производство и распределение товаров и благ.
Для современной российской концепции прав человека характерен отказ от классового подхода при закреплении прав и свобод.
«Классовый принцип был важнейшим в реализации социалистической доктрины в советском государстве. Особенно яркое отражение он получил в первой Конституции 1918 года. Все провозглашаемые в ней права и свободы закреплялись только за трудящимися, то есть за рабочими и крестьянами. В отношении остальных слоев общества, причисляемых к эксплуататорским классам, декларировалось беспощадное подавление. Отдельные лица и отдельные группы лиц лишались прав, которые ими использовались в ущерб интересам социалистической революции. Эта норма воспроизводилась и в Конституции РСФСР 1925 года.
Классово-идеологический подход к правам человека приводил к подавлению личности, к нарушению ее свободы, означал принудительное навязывание человеку социалистических ценностей, не признавал элементарного права человека на свободу мысли. На практике это вылилось в физическое уничтожение огромного числа граждан, объявленных «врагами народа».
Классово-идеологический критерий неприменим в демократическом, правовом государстве. Поэтому и в Конституции 1993 года одной из основ конституционного строя признано идеологическое и политическое многообразие. Права и свободы человека и гражданина не увязываются с его социальным статусом, принадлежностью к какому-либо классу, с приверженностью тем или иным идеологическим ценностям, политическим взглядам. Конституция признает и защищает право каждого человека не только иметь такие взгляды, но и пропагандировать их, беспрепятственно действовать в соответствии со своими убеждениями.
Еще одним источником мыслей для данной редакционной статьи послужили идеи, изложенные В.Д. Зорькиным в его книге «Конституционно-правовое развитие России». В ней председатель Конституционного суда РФ утверждает, что доктрина прирожденных и неотчуждаемых прав человека – концептуальная основа Конституции. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ).
«Что касается теории права, то в ней сейчас конкурируют, с одной стороны, доставшаяся нам в наследство от советского времени жесткая версия юридического позитивизма, отождествляющего право с законом, а с другой стороны, положенная в основу Конституции РФ естественно-правовая доктрина.
Первый подход при всех попытках его облагораживания, по сути, не ушел далеко от формулы А.Я. Вышинского, по смыслу которой право выступает как совокупность правил поведения, установленных в законодательном порядке и обеспеченных принудительной силой государства в целях, установленных самим государством.
Многочисленные попытки соединить оба подхода на базе некоего интегративного (интегрального, синтетического и т.п.) правопонимания пока выглядят не очень убедительно. Их авторам не удается уйти от эклектики, которая образуется в результате смешения разных теоретических принципов».
Право как норма свободы означает, что свобода индивида не абсолютна. Основными границами прав и свобод индивида являются права и свободы других лиц. Посредством норм права свобода одного индивида отграничивается от свободы других. Следовательно, свобода индивида не должна использоваться для нарушения самих этих норм, а также иных конституционных институтов как ценностей, необходимых для реализации и защиты свободы.
Именно в целях защиты конституционных ценностей, в том числе прав и свобод других лиц, на основе баланса этих конституционных ценностей допускается в случае необходимости соразмерное ограничение прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с Конституцией РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55).
Таким образом, Конституция предусматривает не умаление и отрицание прав и свобод, а именно их ограничение, то есть законное определение конкретных границ, пределов их осуществления. Ограничения не могут посягать на само существо права. В противном случае это будет не ограничение, а умаление, уничтожение прав и свобод, что несовместимо с достоинством человека как правового существа. Ограничения должны устанавливаться законодателем не произвольно, а на основе Конституции, заложенных в ней принципов справедливости, равенства и соразмерности. Без выполнения этих условий верховенство права невозможно.
Зорькин продолжает: «Если власть начинает действовать, попирая свободу, то тем самым она становится властью неправовой и в конечном счете антиправовой, то есть опирающейся на произвол. В этой ситуации размывается и стирается грань между государством и преступной группировкой. В результате общество в своем развитии отбрасывается далеко назад».
Чрезвычайно важным методологическим и практическим является значение следующих теоретических положений Зорькина:
«Когда говорят о правовом демократическом государстве, то речь идет об особом типе демократического государства, а именно о либерально-демократическом государстве, основанном на верховенстве (господстве) права как универсальной нормы формальной свободы, на признании неотчуждаемых прав и свобод человека и верховенстве правового закона. Понятие «правовой закон», по смыслу Конституции, означает его соответствие Конституции с заложенными в ней принципами и нормами, в том числе о равенстве и справедливости, о признании и защите прав и свобод человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией (ст. 2, ч. 1 ст. 17). Такое качество закона обеспечивается посредством конституционного контроля: закон, признанный не соответствующим Конституции, утрачивает силу (ч. 6 ст. 125).
Конституция, закрепляя ценностный приоритет прав человека для государства, тем самым устанавливает объективный критерий для оценки правового характера государства и правового (или неправового) характера закона, его отличия от произвольного установления государства. Таким критерием, по смыслу Конституции, являются прирожденные и неотчуждаемые права человека, соответствие которым обусловливает правовой характер законодательства. Таким образом, в Конституции принцип верховенства права соединяет в себе принцип приоритета прав человека и принцип верховенства правового закона.
Важно иметь в виду, что Конституция признает человека, его права и свободы в качестве высшей ценности именно для государства, подчеркивая, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2) и что эти права определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, обеспечиваются правосудием (ст. 18).
Закрепление этого принципа в Основном законе страны было призвано преодолеть характерную для России общинную системоцентристскую идеологию и переломить многовековую традицию доминирования общего (коллективного, общественного, государственного) интереса над личным, которая на практике всегда означала подавление частного, личного начала интересами власти и властвующих субъектов. В рамках прежней российской концепции приоритета государства над личностью населению фактически отводилась роль бесправного средства в руках бесконтрольной власти для укрепления ею своего могущества, расширения и удержания территории своего государства. Социализм существенно усилил эту тенденцию к превалированию так называемого общественного интереса, выразителем которого выступала КПСС, полностью подчинив ему интересы личности.
Такое понимание проблемы соотношения личного и общественного блага с большим трудом преодолевается в нашей современной политической и правовой практике. Даже в теории права и в конституционном правоведении принцип приоритета прав человека до сих пор оспаривается рядом авторов как якобы «общественно опасный тезис», «антиобщественная позиция».
В учебнике Козловой и Кутафина отмечается: «Для современного демократического общества характерен широкий спектр различных типов идеологии, начиная с крайне реакционных (неофашизм, расизм), неоконсервативных и либеральных и кончая левым экстремизмом. Некоторые из этих экстремистских идеологических концепций правого или левого толка давно уже представляют серьезную опасность для нормального существования отдельных стран или даже всего человечества.
Так, фашистская идеология, ядро которой составляют идеи военной экспансии, расового неравенства, классовой гармонии (теория народного сообщества и «корпоративности»), вождизма («принцип фюрерства»), всевластия государственной машины (теория «тоталитарного государства»), сочетающиеся с крикливой демагогией, чтобы замаскировать истинное содержание этой идеологии, стала теоретической основой и программой действий мощного политического течения. Оно привело к власти в ряде стран (Германия, Италия и др.) наиболее реакционные и агрессивные силы. В результате к середине 30-х годов фашизм представлял смертельную угрозу для всего человечества, поставив под вопрос существование многих народов и стран. Только разгром в 1945 году фашистской Германии и ее союзников силами антигитлеровской коалиции при решающем участии СССР позволил остановить экспансию фашизма и насильственное распространение его идей.
Однако опыт показывает, что главная опасность тех или иных идеологий, прокладывающих путь к тоталитаризму, состоит не только и даже не столько в их привлекательности для отдельных социальных слоев или даже большинства населения некоторых стран, а в их монополизации, в превращении этих идеологий в государственные и обязательные.
Убедительным свидетельством тому может служить марксистская идеология. Пока марксизм был идеологией определенных политических течений в различных странах, он представлял интерес в основном для сторонников этих течений. Однако положение коренным образом изменилось, когда в результате Октябрьской революции 1917 года в России сторонники марксизма пришли к власти. С этого времени марксизм становится в России, а затем и в СССР не только идеологией правящей партии, но и государственной идеологией советского государства, обязательной для всех ее граждан».
Надо сказать, что уже 9 ноября (27 октября) 1917 года был принят Декрет Совета Народных Комиссаров «О печати», которым запрещались все оппозиционные советской власти издания. При этом рабочее и крестьянское правительство обращало внимание населения на то, что «в нашем обществе за этой либеральной ширмой (имелись в виду оппозиционные издания) фактически скрывается свобода для имущих классов, захватив в свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание масс».
Следовательно, такого рода свобода этим Декретом сохранялась лишь за государством и господствующей в нем идеологией.
Конституция СССР 1936 года предоставляла гражданам политические права и свободы (свобода слова, свобода печати и т.д.) только «в целях укрепления социалистического строя» (ст. 125). Это означало, что использование данных прав в иных целях, например в целях критики социалистического строя и его идеологии, запрещалось.
Действующая Конституция РФ закрепляет принцип идеологического многообразия как одну из основ конституционного строя страны. Этот принцип прежде всего исключает возможность существования в России государственной или обязательной идеологии. «Никакая идеология, – предусмотрено в Конституции (ст. 13), – не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Тем самым в Российской Федерации должно быть обеспечено идеологическое многообразие, признанное государством.
Идеологическое многообразие означает свободное существование в обществе различных политических и иных взглядов, школ, идей. Идеологическое многообразие является закономерным следствием таких конституционных прав и свобод человека и гражданина, как свобода мысли и слова, свобода совести и др. Наиболее важные гарантии действенности рассматриваемого принципа – отмена цензуры, свобода информации, издательской деятельности, преподавания, реализация принципа политического многообразия и т.д.
Установление в Конституции принципа идеологического многообразия является одним из важнейших демократических завоеваний народов России. Многообразие в сфере идеологии позволяет каждому человеку, людям, их объединениям свободно развивать свои научные теории и воззрения, распространять и защищать их с помощью всех допускаемых Конституцией средств, активно способствовать их осуществлению путем разработки программных документов, законопроектов и т.д.
Конституция РФ выстрадана народом России в ходе кровавых экспериментов над страной в XX веке. Необходимо как зеницу ока беречь ее дух и букву, ставящие человека, его права и свободы в центр деятельности государства и общества. Забвение этой истины недопустимо.































