 И в XXII веке врачи останутся врачами.
Николай Ярошенко. На приеме у врача. Челябинский государственный музей изобразительных искусств
И в XXII веке врачи останутся врачами.
Николай Ярошенко. На приеме у врача. Челябинский государственный музей изобразительных искусств
Цикл новелл Аркадия и Бориса Стругацких «Полдень, XXII век (Возвращение)» (далее П22) не имеет единой фабулы, но отличается очевидной сюжетной связностью. Герои свободно мигрируют из новеллы в новеллу, а в первой части под названием «Почти такие же» рассказывается предыстория двоих из них – Сергея Кондратьева и Евгения Славина. Эта связность и дала повод называть П22 то повестью (это жанровое определение предпочитали сами братья-соавторы), то романом.
Впрочем, граница между романом и повестью в русской словесности всегда была нечеткой. Важно, что П22 – произведение программное. Именно по нему изрядная часть всего корпуса сочинений Стругацких, где подвизаются либо упоминаются одни и те же герои, а действие происходит около XXII века, именуется у критиков «миром Полдня» (или «Полудня»).
Большая часть новелл П22 была написана в 1960 году, хотя в цикл включались (и выключались) новеллы, написанные как раньше, так и позже. Известны две основные редакции П22 – 1962 и 1967 годов (причем обе переиздаются и в наше время). Век в названии обозначался то римской, то арабской цифирью.
Русская грамматика позволяет употреблять в родительном падеже обе формы – и «полдня», и «полудня». Борис Стругацкий в «Комментариях к пройденному» предпочитал первую. Мы будем держаться второй.
Дело в том, что две эти близкие формы дают радикально разные производные: «полдник» (прием пищи между обедом и ужином) и «полуденник» (славянский дух, вызывающий солнечный либо тепловой удар, по христианским понятиям – нечистая сила). И этот полуденник возвращает нас к магистральной теме – призракам коммунизма в советской фантастике.
Воззрения и прозрения
Практически все исследователи П22 сходятся на том, что этот цикл Стругацких содержит неявную, но несомненную полемику с утопией Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» (1957) и романами Станислава Лема «Магелланово облако» (1955) и «Возвращение со звезд» (1961).
Куда большее неприятие вызывает тезис, что П22 в изрядной мере представляет собою ряд беллетристических иллюстраций к футурологическим прогнозам Третьей программы КПСС, принятой на XXII съезде КПСС в октябре 1961 года. Мнение это высказывал, в частности, польский критик Войцех Кайтох.
В полемике с ним философ Юлия Черняховская с некоторой горячностью доказывает, что многие новеллы из П22 были написаны задолго до съезда. И что Стругацкие в своих прогнозах опередили либо предвосхитили не только советских партийных гострайтеров (от ghostwriter – «призрак-писатель»), но и западных футурологов (например, представителей «технооптимизма»). И вообще, слышится в подтексте ее рассуждений, «Стругацкие не такие! Они хорошие!» Как будто использование тезисов партийной программы – это позорное обвинение, от которого вовек не отмыться.
Между тем на некоторой исторической дистанции кажется очевидным, что Третья программа КПСС (включая и «Моральный кодекс строителя коммунизма») – ничуть не менее значительное и почтенное политическое сочинение, чем, например, английская Хартия вольностей (1215) или американская Декларация независимости (1776). Или даже древнекитайский трактат «Лунь Юй», запечатлевший суждения легендарного Конфуция. Хотя бы на том основании, что в Третьей программе рисуются не менее величественные общественные идеалы (насколько долговечные – это уже другой вопрос).
В общем, литература делается из литературы, и партийная литература тут годится ничуть не менее, чем всякая другая. Более того, истинные шедевры могут произрастать из самого неприглядного сора.
Изготовляя конфетку
Например, как мне уже случалось отмечать, все лучшие книги Аркадия Гайдара откровенно конъюнктурны. Конфликты их развиваются в полном согласии со сталинским тезисом об обострении классовой борьбы по мере построения социализма. Поэтому в «Дальних странах» (1931) орудуют кулаки. В «Военной тайне» (1934) – вредители. В «Судьбе барабанщика» (1938) – шпионы. В «Дыме в лесу» (1939) – диверсанты... И все это нисколько не мешает Гайдару оставаться одним из лучших, талантливейших советских писателей.
Еще пример. Филолог Михаил Гаспаров исследует отношение другого филолога Юрия Лотмана к марксистскому учению. «Советское литературоведение строилось на марксизме. В марксизме сосуществовали метод и идеология. Методом марксизма был диалектический и исторический материализм». При этом «идеология победившего марксизма решительно не совпадала с методом борющегося марксизма, но это тщательно скрывалось». А Лотман «относился к марксистскому методу серьезно, а к идеологии – так, как она того заслуживала».
Например, при анализе стихотворения Лотман твердо держится материалистической догмы «бытие определяет сознание». Значит, первым долгом следует исследовать форму, затем – идейное содержание. А начинать анализ с идей, а потом спускаться к «мастерству», как это делали корифеи теории соцреализма, методологически неверно. Вот так же и весь структурализм Лотмана непринужденно и с достоинством опирается на марксистско-гегелевскую диалектику. Впрочем, разбор Гаспарова («Лотман и марксизм») вы легко разыщете сами. Важно, что как бы кто ни относился к марксизму – это нисколько не обесценивает научного творчества Лотмана.
Что же касается утопических воззрений и футуристических прозрений – оба эти рынка были к началу 1960-х, выражаясь на жаргоне экономистов, перегреты. Первый – после успеха коммунистических утопий Ефремова и Лема, второй – на фоне достижений прикладной физики и химии, кибернетики и генетики. Так что Третья программа и П22 кормились с одних и тех же «колхозных рынков». А привести идеологию П22 в большее или меньшее соответствие с тезисами программы КПСС нетрудно было средствами композиции и легкой косметической правкой.
Причем все это знали еще в позапрошлом веке. В конце царствования Николая II было такое распоряжение по цензурному ведомству: «Так как статьи, которые первоначально не представляли ничего противного цензурным правилам, могут иногда получить в соединении и сближении направление предосудительное, то необходимо, чтобы цензура не иначе позволяла их печатать в подобные полные издания, как при рассмотрении их в целости». Поводом к этому распоряжению стало первое книжное издание «Записок охотника» Тургенева (1852). Прежде эти рассказы и очерки печатались в некрасовском «Современнике» и не вызывали особенных нареканий, но собранные вместе, они навлекли на себя высочайшее неудовольствие.
Но ни «Туманностью» и «Облаком», ни Третьей программою и Моральным кодексом подтексты и претексты П22, понятно, не ограничиваются. Вот несколько примеров, как литература делается из литературы в новеллах из цикла Стругацких.
«Ночь на Марсе»
На Марсе вот-вот родится первый младенец, и два врача, терапевт Новаго и хирург Мандель, отправляются из одного марсианского селения в другое, чтобы принять роды. Краулер (гусеничный транспортер) медиков на полдороге терпит аварию, и герои продолжают путь пешком, вооруженные только пистолетами (причем каждый надеется, что уж другой-то стрелять умеет). Им угрожает нападение марсианских пиявок – гнусных летающих хищников, которые охотятся по ночам. Но вскоре медики встречают пару следопытов-археологов, опытных бойцов, вооруженных мощными карабинами, и все кончается благополучно. Позднее читатель узнает, что родившийся в эту ночь младенец – Евгений Славин, один из сквозных героев П22.
Среди подтекстов новеллы – ряд рассказов Чехова, где медики пренебрегают своим врачебным долгом – или, напротив, исполняют его, несмотря ни на что («Сельские эскулапы», «Perpetuum mobile», «Прекрасное должно иметь пределы», «У постели больного», «Горе», «Враги», «По делам службы» и др.). Врачи, которые норовят уклониться от посещения больных, выведены также в пьесах Чехова «Платонов» и «Дядя Ваня». Не менее важны различные варианты «Метели» (Пушкин, Лев Толстой, Чехов и др.) – метасюжет русской литературы о трудном путешествии, обыкновенно вдвоем, которому мешает непреодолимая зимняя стихия (подробнее см. «Метель как главная литературная стихия» в «ЕL-НГ» от 10.01.24). В подтексте новеллы числятся также «Марсианские хроники» и другие рассказы Рея Брэдбери (среди них «И по-прежнему лучами серебрит простор луна…» и «Ночная встреча»), марсианские рассказы Азимова, Шекли и других американских фантастов. Из других новелл П22 мы узнаем, что первый уроженец Марса Евгений Славин и сам стал врачом. Правда, позднее он сменил профессию, прельстившись стезей писателя и журналиста. Но и тут у него были славные литературные предшественники: Чехов, Вересаев, Булгаков. В повести Стругацких «Стажеры» (1962), которая, как и П22, состоит из отдельных новелл, в одном из эпизодов предпринимается большая охота на марсианских пиявок, напоминающая карательную операцию.
«Злоумышленники»
В этой новелле впервые появляются Геннадий Комов («Капитан»), Поль Гнедых («Либер Полли»), Александр Костылин («Лин») и Михаил Сидоров («Атос»), которые действуют либо упоминаются и в других новеллах П22, а также в других опусах о Мире Полудня. Здесь они еще подростки – ученики Аньюдинской школы-интерната, обитатели 18-й комнаты. Четверка эта бредит космическими полетами и готовит побег из интерната с целью проникнуть зайцами на межпланетный танкер, идущий на Плутон. Учитель Тенин, не гнушаясь провокациями, слежкой и тайным обыском, проникает в их планы и лихорадочно придумывает уловки для отвлечения буйных подопечных. А чтобы выиграть время, Тенин натравливает четверку на Вальтера Сароняна – сверстника, которого подростки ранее выжили из своей 18-й комнаты.
«Пусть не ночь, – думал учитель. – Пусть только четыре-пять часов. Задержать их и занять на это время. Как?»
– Кстати, о любви к ближнему, – сказал он… – Как называется человек, который обижает слабого?
– Тунеядец, – быстро сказал Лин. Он не мог выразиться резче.
– Трусить, лгать и нападать, – проговорил Атос. – Почему вы спрашиваете, учитель? С нами этого не бывало и не будет.
– Да. Но в школе это случается… иногда.
– Кто? – Поль подскочил. – Скажите, кто?
Учитель колебался. То, что он собирался сделать, было, в общем, дурно. Вмешивать мальчишек в такое дело – значит многим рисковать. Они слишком горячи и могут все испортить. И учитель Шайн будет вправе сказать что-нибудь малоприятное в адрес учителя Тенина. Но их надо остановить и…
– Вальтер Саронян, – сказал учитель медленно. – Я слыхал об этом краем уха, мальчики. Это все надо тщательно проверить.
Он смотрел на них. Бедный Вальтер! У Капитана бродили желваки на щеках. Лин был страшен.
– Мы проверим, – сказал Поль, недобро щурясь. – Мы будем очень тщательны…»
Претекст новеллы – автобиографический опус Киплинга «Сталки & Cо» (1899) о трех мальчиках из частной школы. Как и П22, повесть Киплинга состоит из отдельных новелл. Аркадий Стругацкий переводил ее на русский и высоко ценил (похоже, термин «сталкер» образован от имени ее героя). Нравы подростков там изображаются жесткие, но без дедовщины и педерастии, свойственных английским частным школам. Еще один очевидный претекст – «Три мушкетера», что понятно уже из прозвища Атос, на которое откликается юный Сидоров. Другие члены четверки прототипов среди мушкетеров вроде бы не имеют, но в новелле есть явная перекличка с эпизодом романа Дюма. Пылкий дебютант Д’Артаньян, как мы помним, собирался драться на дуэли с тремя мушкетерами последовательно. Вот как эта ситуация выворачивается в «Злоумышленниках»:
«Вальтер резво прыгнул в воду. – Вчетвером на одного! – крикнул он. – Эх, вы! Со-овесть!..
Поль подскочил от ярости.
– Вчетвером?! – завопил он. – Валька-малёк был вчетверо слабее тебя! Нет – впятеро, вшестеро! А ты лупил его по шее, грубая скотина! Мог бы найти Лина или Капитана, если у тебя чесались лапы, горилла!..
Вальтер был бледен. Маску он нацепил, но еще не опустил на лицо, и теперь растерянно озирался, ища выхода. Ему было холодно. И он понял.
– Стыдно, Вальтер! – сказал великолепный Атос. – По-моему, ты трусишь. Стыдно. Выйди. Ты будешь драться со всеми по очереди.
Вальтер поколебался и вышел. Он знал, что это такое – драться с 18-й, но он все-таки вышел и принял стойку. Он чувствовал, что расплачиваться придется, и знал, что это лучший способ расплатиться».
Драку соавторы все же изобразить не решились. В наказание голый Вальтер вынужден разыскивать свою одежду в зарослях жгучей крапивы. В режиме содержания подростков в интернате есть и другие странности. По ночам «невидимый поток инфралучей заставляет заснуть самых беспокойных». Не очень понятно, чем это принципиально отличается от башен-излучателей, регулирующих поведение подданных тоталитарной Страны Отцов на несчастной планете Саракш в романе «Обитаемый остров» (1968). Уловки и провокации учителя Тенина заставляют вспомнить также эпизоды из «Республики ШКИД» Белых и Пантелеева, из «Педагогической поэмы» и «Флагов на башнях» Макаренко. Между прочим, корифей советской пенитенциарной педагогики упоминается в П22: в новелле «Двое с «Таймыра» девушка из XXII века спрашивает у реликтового человека Славина, не был ли он, часом, знаком с Норбертом Винером и Антоном Макаренко.

|
|
…А школьники – школьниками. Михаил Нестеров. Экзамен в сельской школе. 1884. ГТГ |
Воспитание нового человека – магистральная тема Стругацких. Проблемы педагогики и воспитания поднимаются практически во всех их книгах. А центральными становятся в таких как «Трудно быть богом» (1964), «Гадкие лебеди» (1967), «Малыш» (1971), «Парень из преисподней» (1974), «Жук в муравейнике» (1979), «Отягощенные злом» (1988) и др. Об утопическом характере Высокой теории воспитания по братьям Стругацким у нас еще будет повод поговорить.
В новелле «Естествознание в мире духов» из П22 пожилой ридер-телепат размышляет: «На «Искателе» после катастрофы остался только один живой человек – мальчишка-стажер Вальтер Саронян. Очень, очень талантливый юноша, по-видимому. И железной воли человек. Раненый, умирающий, он стал искать причину катастрофы... и нашел!» Это, по-видимому, главный аргумент в пользу воспитания по-аньюдински. Другие эпизоды из П22, впрочем, эту благостную картину немножко портят. Например, Атос-Сидоров появляется в новеллах «Десантники» и «Поражение». Причем поражение он терпит в обеих. В первой новелле Сидоров выказывает на планете Владислава безрассудную храбрость, едва не приводящую к гибели его самого и его товарищей. Во второй действие происходит на Северных Курилах, на острове Шумшу; Сидоров тут раздражен на весь свет и всячески третирует новичков-подопечных. Между тем в неудаче проводимого этой командой эксперимента виноват только сам Атос. Он не удосужился познакомиться с историей острова, наткнулся на японский склад боеприпасов времен Второй мировой и опять-таки едва не погубил себя и подчиненных.
Сидоров мелькает и в других книгах о Мире Полудня. К концу XXII века он занимает пост президента сектора «Урал-Север» Комкона-2 – контрразведывательного ведомства.
Штампы и клише
Лидия Гинзбург рассуждает о канонах соцреализма:
«Зло может проистекать только из враждебности или чуждости этой системе или из заблуждения и непонимания (это герой, который в конце исправляется)... В пределах же системы все благополучно. Смерть благополучна – человек умер, но дело его живет; страдания благополучны – они закаляют человека... Если старые придирчивы и ворчливы, то потому, что они радеют об общем деле. Если женщины агрессивны, то потому, что они блюдут устои. Если общественный работник грубоват, то это функция его честности. Если ребята шалят, то потому, что это живые, бодрые ребята, не слизняки какие-нибудь. Кроме того, недостатки нужны для симуляции «живого человека»… как временные неблагополучия нужны для того, чтобы стал возможным хоть какой-то сюжет».
Герой, который исправляется в П22 – это упомянутый выше Вальтер Саронян; хотя это исправление ценою гибели, но дело его живет. Пытается исправиться и Атос-Сидоров: в «Поражении» он уделяет повышенное внимание дисциплине и пытается выдавить из себя по капле остатки романтики. (Истинно стоическую миссию хронический неудачник Сидоров исполняет в «Беспокойстве», прототексте «Улитки на склоне»; но в канон «Мира Полудня» эта промежуточная редакция не вошла).
«Страдания закаляют человека»
В П22 этот тезис иллюстрирует Сергей Кондратьев, в облегченной и несколько сниженной версии – Поль Гнедых, но мы вернемся к этим героям позже. В других книгах о Мире Полудня есть и другие иллюстрации, самая разительная – Саул Репнин из «Попытки к бегству» (1962), героический и сверхъестественный «дезертир из прошлого». Придирчивые и ворчливые старики – те же ридеры из «Естествознания в мире духов» или профессор Ломба из «Загадки задней ноги». А в глазах Сидорова – также благоразумные десантники Горбовский и Валькенштейн и ученый педант Август Бадер в новелле «Десантники». Агрессивных женщин в П22 практически нет – разве что совсем уж эпизодическая Мария Черняк, блондинка и оператор тяжелых систем из «Самодвижущихся дорог». Но за пределами цикла их хватает: вздорная ведьма Наина Киевна из «Понедельника», Славные Подруги из «Беспокойства» и «Улитки», Сельма из «Града обреченного» и др. То же касается и «грубоватых работников» (эталон в этом отношении – Корнеев в «Понедельнике»). «Живые, бодрые ребята» – практически все воспитанники прогрессивных интернатов. В общем, соцреалистических штампов и клише в П22 предостаточно – и не только в характерах героев, но и в сюжетных поворотах, и на словесном уровне. Все это сказано не в упрек: писать совсем без штампов невозможно, а на самом глубоком уровне они называются мифами и архетипическими ситуациями, пародийными моментами и стилизациями.
Фокус в том, чтобы соблюсти и сбалансировать как меру новизны, так и связь с традицией. Братьям-соавторам это, по-видимому, удается – иначе их книги не перечитывались бы до сих пор.
В следующий раз мы поговорим, в частности, о юморе у Стругацких. Меня всегда занимало, почему это счастливые обитатели XXII века разговаривают и острят ровно так же, как современники соавторов из середины ХХ столетия.
























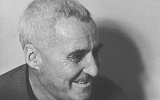



комментарии(0)