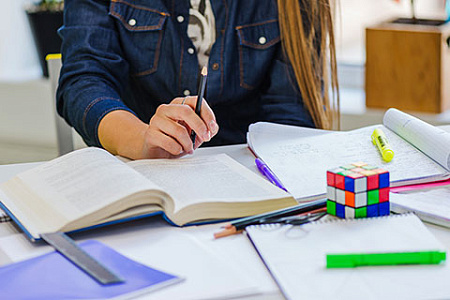 Способность правильно пользоваться знаниями, полученными в классе, разовьет только домашний самостоятельный труд. Фото сайта Freepik
Способность правильно пользоваться знаниями, полученными в классе, разовьет только домашний самостоятельный труд. Фото сайта Freepik
Раньше проблема снижения домашней нагрузки на ученика казалась мне проще пареной репы. Надо всего лишь, наивно думал я, суммировать данные о домашних уроках, заданных некоему условному Васе по каждому предмету, а потом минимизировать полученную цифру.
Где же хранится эта комбинированная, то есть собранная воедино информация о Васиной нагрузке на текущий день? В явном оперативном виде ее нет ни в школе, где он учится, ни в министерстве, ни в РОНО.
Не может быть! В чьей же тогда голове все эти задания на дом ежедневно регистрируются, кладутся на весы, делятся на «легкие», «приоритетные», «устные», «письменные», «обязательные» и т.д.?
Есть такой человек, его Васей зовут. У его родителей на все 17 дисциплин школьной программы просто сил не хватит.
Вот и выходит, что оперативным центром по переработке самой важной для ребенка информации по поводу его образования является… сам ребенок. Только один Вася знает, на сколько заданий нынче вечером хватит его здоровья, потому что на все – точно не хватит.
Приходится главным командно-информационным штабом управления образования признать по факту и назначить самого ученика. Ему, получается, и следовало бы доверить вынос вердикта по поводу снижения стресса, обуздания информационных потоков, выбора видов занятий и вариантов своевременного отдыха от них.
Но в Госдуме логике «от ребенка» предпочли типовое решение: предложили поощрять из государственных активов тех учителей, кто отменил традиционное домашнее задание (ДЗ) «в пользу инновационных форматов».
Мысль хороша, но не выдерживает испытания практикой. Представим: посреди урока в класс реформатора является инспектор. «Вы, – говорит, – нарушили два приказа министерства и СанПиН, переступили через систему тематического планирования занятий, пренебрегли расписанием, как а) еженедельным, так и б) поурочным. Потому что по факту осваиваете Гоголя, а по документам у вас на пятом уроке должен быть Фонвизин. По какому праву... etc».
Вот и все новаторство. Нужен, приходится признать, в комплект к предлагаемому еще один парламентский декрет – о передаче содержания школьного образования в оперативное управление педагогического корпуса России. Чем больше свободы, тем лучше.
Один мой товарищ, руководитель крупной корпорации, школьный историк по диплому, в этой связи обронил: «По-моему, учительская профессия – это голое ремесло, производство доиндустриальной эпохи. Оно не знает науки, и это прекрасно». «Неужели, – улыбаюсь, – чистое искусство? Ты подумай! А что же нам делать с наукой?». Товарищ, глазом не моргнув: «Она нужна для управления школами – там, где большие цифры. Но для самого процесса – нет!»
Пока его слушал, вспомнил высказывание Льва Толстого о том, что прогресс ждет педагогику не впереди, а позади нее. Стало яснее, почему великий пастырь называл учеников в своей школе «первобытными людьми». И с какой целью призывал образование вернуться к кочевому образу жизни, признав оседлость бесперспективным занятием. При этом ученик-кочевник «слушает [педагога] как бы из седла» (метафора Иосифа Бродского) и переходит к следующему педагогу.
Но как бы это нашим депутатам популярно объяснить? Будучи твердыми коменианцами, они делают ставку на школьный контроль (оценку) и домашнее задание – две ключевые, опорные функции школы Коменского. Хотя (ухмылка цивилизации!) сам главный архитектор современной «дидактической машины» был против ДЗ. «Шесть часов в школе да шесть дома – такое учение истощает физические и нервные силы», – вторит Коменскому Василий Сухомлинский. Правда, «домашку» в своей школе классик советской педагогики сохранил. Самостоятельной работе он отвел что-то в пределах одного часа – утром, перед классными занятиями.
Диву даешься, читая иные заметки в наших педагогических СМИ. Оказывается (пишут в одном из них), еще Кант говорил, что на занятиях в школе можно разве что «вдолбить все правила, добытые чужим пониманием, но способность правильно пользоваться ими разовьет только домашний самостоятельный труд». Однако, вот точная цитата. «Школа, – читаем в «Критике чистого разума», – может только доставить ограниченному рассудку и как бы вдолбить в него все правила, добытые чужим пониманием, но способность правильно пользоваться ими должна принадлежать самому воспитаннику». И ни единого поклона в адрес осененной всеми венчиками, ореолами и знаками отличия домашней каторги.
Летом 2011 года первый ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов поднял «проклятый» вопрос перед министром образования и науки РФ Андреем Фурсенко. «Наш идеал – учитель полного дня», – заявил Кузьминов и предложил платить учителям начальной школы повышенную ставку за полный день, которая включала бы от 10 до 25 уроков плюс экскурсии, походы, игры, инсценировки. Что же министр? Догадайтесь сами!
Так что, принимаясь за гильдейские реформы, педагогика потребует ювелирно продуманный план отступления государства с территории образования. Степень регламентации всего и вся достигла точки бифуркации. Разовыми порциями кислорода в виде отмены хрестоматийных ДЗ или отдельных ЕГЭ тут уже, видимо, не обойтись.





























