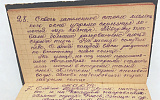|
|
Географ Вадим Покшишевский в годы войны. Фото из семейного архива |
Вадим Покшишевский – классик отечественной социально-экономической географии. Теоретик и полевой исследователь. Педагог и популяризатор науки. Организатор науки, почетный член Географического общества, единственный среди экономико-географов удостоенный высшей его награды – Большой золотой медали. Решение о публикации книги, принятое еще в 1941 году, не было исполнено: помешала война, а затем засекречивание данных о размещении промышленности в период холодной войны. Рукопись считалась утраченной. И лишь недавно обнаружена в архиве и опубликована впервые.
Научный редактор издания Кирилл Страхов отмечает: «География промышленности – ключ к пониманию пространственной структуры города, считал Покшишевский. Без помощи вычислительных машин, по старым планам, книгам и статистическим сборникам он собрал данные о промышленных предприятиях Петербурга за два с половиной века, от Петра до Сталина, положил динамику размещения промышленности на карту и показал трансформации городского пространства под воздействием промышленной революции».
Впечатлениями от книги, посвященной трансформациям структуры Северной столицы за два века промышленной революции, делится кандидат географических наук, один из старейших и авторитетных отечественных экономико-географов.
Редакция «НГ-науки»
С Вадимом Вячеславовичем Покшишевским я встречался всего один раз – в 1964 году. На третьем курсе Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова я писал курсовую по татаро-башкирскому Прикамью и в Библиотеке имени Ленина наткнулся на книгу В.В. Покшишевского «Поволжье», которая мне очень понравилась своей познавательностью.
В Институте географии Академии наук СССР он уже не работал: его «ушли» в принципе те же персонажи, что «ушли» оттуда и меня в 1972 году. Я нашел этого авторитетного ученого в институте этнографии имени Миклухо-Маклая на улице Дмитрия Ульянова.
Наш разговор, естественно, начался с Елабуги и Чистополя, но потом почему-то съехал на вузовский учебник Бернштейна-Когана, который я освоил еще в школе – это был, безусловно, один из лучших учебников по экономической географии СССР. Мы, маститый ученый и, по сути, еще щенок проболтали более двух часов. Как ни странно, теперь я с удивлением обнаруживаю, что только с ним и проговорил два часа: все остальные корифеи прошли мимолетностями, пусть и многочисленными.
Читая «Промышленную географию Петербурга», я мысленно продолжал диалог с автором. Мысль, не порождающая другую мысль, мыслью не является. Поэтому вместо обычной рецензии предлагаю читателям «НГ-науки» фрагмент этого заочного диалога о судьбе российского города – несколько откликов на замечательные мысли, которыми благодатна замечательная книга замечательного географа.
Четырехмерное пространство
«…нам придется рассматривать его [город] не как пункт, а как территорию, имеющую свои микрогеографические различия».
Город занимает четырехмерное пространство – помимо картографической координатной плоскости, город обладает вертикалью этажности и атмосферного аэрориума, подземных сооружений и грунтов. Он также имеет ось времени, включающую его историю и предысторию, его мгновенное настоящее и веер перспектив и ожиданий будущего.
Город подобен пятну на промокашке, расплывающемуся и разбрасывающему капли – дачных поселков и дач, свалок, кладбищ, логистических и складских центров, рекреационных и релаксационных уголков и т.п. Это пятно динамично и склонно расширяться, урбанизируя сельские и природные ландшафты.
«...автор не может не упомянуть и об известном субъективном интересе – интересе к своему городу».
Субъект-субъектные отношения географа с городом, регионом, страной, планетой, космосом – быть своим исследователем своего города или района это значит быть его рабом и хозяином одновременно.
«С точки зрения капиталиста»
«...Следует различать случаи размещения предприятий, являвшиеся нерациональными и с точки зрения их бывших капиталистических хозяев ; случаи рационального с точки зрения капиталистических субъектов размещения, являющегося, однако, неудачным с точки зрения интересов города ; случаи такого размещения предприятия, которое, будучи рациональным с точки зрения капиталиста, не противоречит и нашим социалистическим принципам».

|
|
География промышленности – ключ к пониманию пространственной структуры города, считал Покшишевский. Фрагмент обложки монографии «Промышленная география Петербурга». |
Например, критерий экологичности артикулированно сложился только в 60–70-е годы ХХ века. Транспортный фактор, например, в результате стремительного прогресса на транспорте перестал играть заметную роль в размещении, особенно если речь идет о тонких технологиях. Водный фактор в сельском хозяйстве, например, Израиля перестал играть роль за счет опреснительных технологий и технологий многоразового использования воды.
При этом надо заметить, что многие факторы и критерии размещения имеют неэкономический характер: староверие и протестантизм объединяет аскеза трудолюбия (industria). Но для староверов она бескорыстна, а для протестантов является мерилом спасения, поэтому для протестантов наемный труд – конфессиональная необходимость, а для староверов он неприемлем. Староверы охотно использовали наемный труд других, но сами избегали его.
Ислам запрещал женщинам работать по найму: партийные власти Узбекистана настойчиво боролись против статуса своей республики как сырьевого придатка хлопчатобумажной промышленности России и требовали строительства хлопчатобумажного комбината в Ташкенте. Но когда это требование было выполнено, в Ташкент пришлось завозить 25 тыс. ивановских ткачих.
Окно в Россию
«...Основание Петербурга явилось важным этапом в этом процессе укрепления национального государства и развития купеческого класса».
Мы продолжаем видеть этот процесс односторонне. Господин Великий Новгород был всего лишь самой восточной факторией Ганзейского союза, коромысла, на одном конце которого лондонский Stalhof, а на другом – новгородский Piterhof. Ганзейцы охотно обучали новгородских детей грамоте, счету и коммерции, поощряли местную торговлю, но строго следили за тем, чтобы русские не выходили в Балтику и далее (сказка «Садко» была придумана именно для этого).
Петр I прорубил не столько окно в Европу (мы, например, при нем так и не построили на Балтике свой торговый флот), сколько окно в Россию, через которое в страну хлынула европейская цивилизация. Только при Николае I, то есть спустя более 100 лет после основания Петербурга, началась изоляционистская политика, имевшая жалкие результаты: из 120 торговых домов Петербурга – 108 принадлежали иностранцам. (По сведениям В.В. Покшишевского, 40% промышленных заведений Петербурга, 63 из 163, в конце XVIII века принадлежало иностранцам).
После принятия изоляционистского пакета царских указов все эти иностранцы дружно приняли российское гражданство и стали сугубо формально российскими гражданами.
«...Петербургская мануфактура, принадлежа к той же социальной формации, что и глубинно-российская, обычно выгодно отличалась от нее технической оснащенностью, размахом и продуманностью руководства, лучшей общей постановкой дела».
Питерские рабочие, в отличие от московских и большинства других российских городов, были постоянными жителями города, селились семьями в доходных домах с меблированными квартирами и комнатами, работали на фабриках и заводах круглогодично, что соответствовало европейским стандартам. Та же картина наблюдалась в Финляндии, Польше и Прибалтике.
Московские рабочие и рабочие большинства российских городов сохраняли свой сословный статус крестьян, жили в казармах и бараках бессемейно, в общей численности населения городов не значились, от Пасхи до Рождества Богородицы возвращались к семьям в села и деревни, занимаясь там агрокультурой.
Именно этот европейский склад питерских рабочих привел к изгнанию из города большевистского правительства решением Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в марте 1918 года.
Главный город
«...в течение всего XVIII и XIX веков Петербургу принадлежала, несомненно, ведущая роль в процессе создания внутреннего рынка потребительских ценностей и ценностей оборонного характера».
В данном случае важны два аспекта.
В русском языке и российском самосознании главный город ассоциируется со столом и застольем, объеданием остальной части страны, и главное место у этого кормления и корыта – престол. В европейских языках и европейском самосознании главный город ассоциируется с головой (capital), с местом, где думают о стране, заботятся о ней, а не о себе.
Столичная роскошь и военно-промышленный комплекс (ВПК) в российской истории и действительности удивительно тесно связаны: армия и вооружения – вот главная и даже единственная опора российского государства во все времена. И чем милитаризированней верхушка власти, будь то Николай II, Сталин или нынешнее руководство страной, тем пышнее роскошь дворцов, автомобилей, коллекций и прочих богатств и излишеств при престоле и вокруг него. И наоборот – чем богаче власть и приближенные к ней, тем больше средств уходит на их защиту, а также на военное удовлетворение растущих аппетитов.
«...Петербург оказался главным денежным рынком России, в обстановке которого любое предпринимательское начинание было весьма облегчено».
Перенесение столицы из Петрограда в Москву практически мгновенно перенесло и печатание денег, и деловую активность (промышленную, транспортную, финансовую и, увы, творческую) в новую столицу. Сегодня Москва, концентрируя 5–20% населения страны (эти цифры катастрофически разнятся между собой), вращает внутри себя 80–90% всех денег страны. Почти все так называемые естественные корпорации зарегистрированы в Москве и налоги платят Москве. Сплав денег и власти. Именно по этой причине так серьезно стоит проблема коррупции в России.
* * *
На этом можно закончить отклики на мысли и идеи В.В. Покшишевского, удивительно свежие и понятные сегодня. Чтение этой книги легко и приятно, и даже анахронизмы выглядят весьма мило.