 Бесполезного мусора свалка… Иллюстрация создана при помощи нейросети «Шедеврум»
Бесполезного мусора свалка… Иллюстрация создана при помощи нейросети «Шедеврум»
Книга Максима Лаврентьева стала своеобразным подарком к 50-летию поэта. Ужасно тяжело писать про 50 лет: Лаврентьев для меня олицетворение молодости, чего-то литинститутского, немного легкомысленного – и вот уже полтинник. Да, время бежит, и бежит неумолимо. С другой стороны, можно остановиться и бросить взгляд на творческий путь нашего героя. Подвести, так сказать, предварительные итоги. Что же получилось из начинающего перспективного поэта, выпускника Литературного института?
Прежде надо сказать несколько слов о современной русской поэзии, точнее, ее месте в обществе. Оно очень низкое. Поэты сегодня мало кому интересны. Назовите-ка с ходу пятерку лучших, которые моложе тех же 50? Впрочем, в других видах культуры ситуация не лучше. Назовите таковых живописцев? Композиторов? Да и прозаиков? Серьезные жанры искусства отодвинуты на самую периферию. Времена Евтушенко давно прошли, да и Бродского тоже. Поэтому пытаться установить место того или иного поэта в современной литературе весьма затруднительно. Его, во-первых, надо еще найти, поскольку авторы не на слуху. Писатели существуют сами по себе, разрозненно, в каких-то кучках. Целостного литературного процесса, в рамках которого можно судить и рядить, не имеется.
Максим Лаврентьев – прекрасный тому пример: он сам по себе, есть круг его приверженцев, тех, кто любит его поэзию, но далее как-то непонятно. Признан он официально, не признан? Официально – имеется в виду не государством, а истеблишментом. Не могу сказать. Мне повезло, уже не помню, как я на него наткнулся и открыл для себя – и с тех пор уже не закрываю, позволю такую шутку.
На мои взгляд и вкус, Лаврентьев – фигура значимая, поэт он настоящий. Но он вообще человек многогранный, пишет прозу, причем в разных жанрах: тут и автобиографический роман, и юмористические заметки, и рассказики из жизни. А кроме того, он и композитор, и художник, и литературный критик и исследователь. Про музыку сказать ничего не могу, а вот портреты, которые он создает, удачны. Но Максим талантлив помимо собственно творчества: умеет многое руками, умеет одеваться, умеет выступать. С ним интересно разговаривать.
Но вернемся к поэзии, ведь это для него/в нем главное: без стихов Лаврентьев не имел бы такой известности. Писать он начал поздновато, но к 50 годам запас уже накопил, так что есть о чем поговорить. Что такое поэзия Максима Лаврентьева? На кого он похож? Думаю, что на Заболоцкого, и не раннего, а позднего, Заболоцкого периода классицизма, усталости и философских размышлений. Понятно, что всякое сравнение условно. Но другого подобрать не могу. Обратимся к книге:
Потому что, душой тяжелея,
юных лет утолив озорство,
человек ощущает сильнее
с повседневной природой
родство.
И, огромного мира частица,
долгожитель его коренной,
все не может никак
надивиться
обычайности жизни земной.
Как по мне, строки очень «заболоцкие». Ведь что было характерным у Заболоцкого зрелого периода? При всей серьезности подымаемых тем некое сползание на страницы школьного учебника, то есть такое построение стиха, что он просился в советские антологии своей безупречной правильностью, умышленным снижением полета мысли и чувства. Заболоцкий – это поэт-философ, работающий учителем, допустим, русского языка в провинциальной школе и пишущий стихи для школьной стенгазеты. Их не страшно там разместить, никакая самая серьезная комиссия из гороно не придерется. И у Максима Лаврентьева то же самое, его стихи как бы серьезные и не очень одновременно. Я даже не могу подобрать правильного слова, они не детские, не наивные, не пародирующие графоманию, это не дуркование, как у Хармса или Глазкова. Это какая-то «заболоцковщина», как была в свое время «есенинщина». Сравните.
Лаврентьев:
Обернется позором
гигантским
бесполезного мусора свалка.
И конечно, ученым веганским
нас не будет ни капельки
жалко…
Заболоцкий:
Улетит и погаснет ракета,
Потускнеют огней вороха…
Вечно светит лишь сердце
поэта
В целомудренной бездне стиха.
Лаврентьев:
Живописны закаты,
эффектны восходы,
но художники их повторяют
давно,
а в запасе чудес есть у русской
природы
то, что выразить только
стихами дано.
Заболоцкий:
Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
Лаврентьев:
Небеса озаряются светом
зарницы –
атмосферный на запад
подвинулся фронт.
И в лесу оголтелые носятся
птицы,
словно срочный природы
объявлен ремонт.
Заболоцкий:
Содрогаясь от мук, пробежала
над миром зарница,
Тень от тучи легла и слилась,
и смешалась с травой.
Все труднее дышать, в небе
облачный вал шевелится.
Низко стелется птица,
пролетев над моей головой.

|
|
Максим Лаврентьев. Избранное. Поэзия: Сборник стихотворений. – М.: Романов, 2025. – 356 с. |
Я понимаю, что могу показаться неубедительным, у каждого свой вкус, свои ассоциации, порождаемые стихами. Но свой тезис выражу четко: место Лаврентьева в русской поэзии сегодня примерно то же, что у Заболоцкого в 1950-е. Заболоцкий был «мимо» Пастернака, Ахматовой, Твардовского. Так и Лаврентьев «мимо» многих сейчас. Он сам по себе.
Да, литинститутское начало связывает порой его с позднесоветской поэзией: «Доволен своей антитезой, / побиться готов об заклад: / был юным плутом и повесой / великий мыслитель Сократ». Или: «Грязен и одеждою и телом / Диоген вошел в огромный зал, / где Платон средь роз в наряде белом / на пиру роскошном возлежал». Или: «…но изящней листок на грибе, чем изгибы в скульптурах Кановы». Или: «Ценней Самофракийской Ники две лесные земляники!»
Но Лаврентьев не так прост и в своей внешне простенькой поэзии умеет закрутить разные смыслы: «И хоть бора сосновый концерт – / какофония скрипа и хруста, / в нем отсутствуют ложный концепт / и натужная прелесть искусства». На поверхности пародирование Заболоцкого: «Я увидел во сне можжевеловый куст, / Я услышал вдали металлический хруст». Но тематика совсем современная, подпускается модное словечко «концепт», и стихотворение звучит свежо.
Лаврентьев вообще очень продвинут, несмотря на якобы архаичность: «Telegram», «Telegram-каналы», «Френдлента, лайкнув», «Аватарка с мордою лица», «Сделал селфи». Он не боится впускать в стихотворения язык... чуть не сказал «улицы» – нет, язык Сети. Этого у Заболоцкого не имелось. Как не было и этого: «…словно вылезший из зада у слона гигантский глист». Может, в период «Столбцов» Заболоцкий и написал бы нечто похожее, но мы-то про его поставангардное творчество.
Лаврентьев очень интересуется мировыми религиями: половину сборника занимают переводы из Библии («Псалмы Давида», «Притчи Соломона», «Книга Экклезиаста»). Есть стихи по индуистским, конфуцианским, исламским мотивам, из Ветхого и Нового Заветов. Он не просто начитан художественно, но и разбирается в мировой истории и политике. Лаврентьевская «летопись» дает замечательный образец продолжения поэмы Бродского на английском языке «История XX века» (History of the Twentieth Century (A Roadshow)). Но если Бродский заканчивает на 1914 годе, и соответственно в его поэме нет ничего личного, то Лаврентьев начинает с года своего рождения – 1975-го – и вплетает в хронику мировых событий происшествия из собственной жизни. Максим ко всему подходит серьезно, со знанием дела, звезды у него не просто звезды, но – Альфа Кассиопея, Эпсилон Эридана, Арктур, то есть некоторая научность ему свойственна.
И последнее, в связи со звездами. Чтобы понять, чем же отличается Лаврентьев от большинства современных поэтов, сравните его стихотворение «Тот, кто уродился косолапым» со стихотворением Льва Лосева «Как в романсе». Оба о детских мечтаниях о полетах в космос – на Марс или Венеру. Оба грустны, ибо ничего не вышло. Но у Лосева все как-то очень серьезно, с надрывом, а у Лаврентьева – нет, он переводит сожаление в нечто несерьезное, у него нет космического отчаяния.


























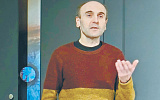


комментарии(0)