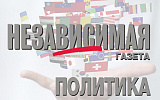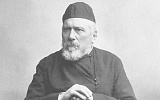С КПРФ ничего не случилось. Геннадий Зюганов говорит: партия выстояла, раскола нет, кризис миновал. Ему не все верят (как можно верить столь заинтересованному лицу!), тем не менее он говорит чистую правду. Пожалуй, Зюганов прав даже больше, чем ему самому хотелось бы. Жестокий «кризис власти», потрясший эту партию, действительно не произвел в ней никаких существенных и необратимых трансформаций.
Самое интересное, что таковых трансформаций не случилось бы и при ином исходе внутрипартийного конфликта. Теперь, после «альтернативных» пленумов и съездов, уже очевидно, что бунт, поднятый группой «недооцененных» партфункционеров и «розовых» губернаторов, в случае успеха мог увенчаться только небольшими кадровыми изменениями в партийной верхушке. К концу схватки ничего другого в планах мятежников уже не было. Возможно, потому бунт и не удался.
На начальной стадии конфликта оппоненты Зюганова пытались втянуть ЦК в спор по поводу партийной тактики. Будущий кандидат в генсеки Владимир Тихонов, камчатский губернатор Михаил Машковцев и ряд других семигинцев не один раз уговаривали однопартийцев отказаться от «бессмысленной конфронтации», признать успехи путинского правления, начать «конструктивный диалог» с Кремлем. Однако эти речи они произносили только в закрытых партийных аудиториях, явно опасаясь, что более широкие массы их не поймут. И было неясно, почему они думают, что за присмиревшей Компартией эти массы пойдут охотнее, чем за буйной.
КПРФ cамоопределилась как партия социального протеста, адвокат и пастырь всех пострадавших от рыночных реформ. Поэтому электоральные успехи коммунистов почти всецело зависят от степени общественного недовольства властью. Граждан, недовольных Путиным, заметно меньше, чем было недовольных Ельциным, – отсюда и унизительные 12,7% на выборах 2003 года. В такой ситуации «протестантам» остается сидеть и ждать, когда нефть подешевеет, казна истощится и Путин выйдет из доверия. Другого «источника вдохновения», кроме обиды на власть, у коммунистической паствы нет. Претендуя на роль партии обездоленного большинства, КПРФ не сумела предложить ясного и приемлемого для этого большинства «проекта будущего». Хотя нынешние идеологи Компартии признают и многопартийность, и частную собственность, и альтернативные выборы, в массовом сознании КПРФ остается партией, обращенной в советское прошлое, а потому идейно близка лишь тем, кто, во-первых, считает это прошлое прекрасным, во-вторых, верит, что его можно вернуть.
Сколько такого «истинно верующего» народа осталось в РФ, никому не ведомо. Но в декабре 2003 года выяснилось, что твердо рассчитывать коммунисты не могут даже на стариков. В провинциальной России 1700–2000 рублей пенсии, которую теперь носят регулярно, – деньги, какие водятся далеко не у всех. Пенсионеры чувствуют себя обеспеченным сословием, поэтому отучаются протестовать и перекидываются на сторону «Единой России». Да что пенсионеры – теперь нельзя уже положиться на «красных» губернаторов, «красных» мэров, «красных» спикеров, которым КПРФ, можно сказать, дала все. Массовое ренегатство в этой среде обусловлено не только тем, что трудно руководить губернией и собачиться с президентом. Еще труднее руководить губернией и оставаться честным коммунистом. Если он такой честный, то обязан восстановить в своей отдельно взятой губернии советскую власть – другого выбора программа и устав партии ему не оставляют. А как он ее, бедолага, восстановит?
Оппоненты Геннадия Зюганова говорят: последние пять лет у ЦК была негодная тактика. Не тех людей вставляли в избирательные списки, не у тех брали деньги, не тех двигали в губернаторы... «Символа веры» ни одна из сторон конфликта не трогала. В результате ничего похожего на проект новой России, в котором принципы социальной справедливости сочетались бы не с властью Советов и плановой экономикой, а с «общечеловеческой» демократией и рынком, на полях этой дискуссии не нарисовалось. ЦК обещал освежить партийную программу к Х съезду, но тут началась борьба за лидерство, и с программой решили погодить – а то наверняка нарвешься на обвинения в ревизионизме. Не разродилась новым политическим посланием и антизюгановская оппозиция, грозившая «серьезно обновить партийную платформу», но не выдавившая из себя ни одного членораздельного звука. Фактический руководитель «альтернативного ЦК» Сергей Потапов неделю после съезда только и делал, что клялся в верности коммунистическому учению, отвергал социал-демократию и попрекал Зюганова, что тот не ровня титанам Ленину и Сталину. В выпущенной мятежниками брошюрке с незатейливым названием «Предательство» бессменный лидер КПРФ в первой же фразе представлен как «идеолог, предавший идеи марксизма-ленинизма».
Потребителям этой пропаганды оставалось думать, что Зюганова решили гнать потому, что он хотел сорвать строительство коммунизма. Но тогда неясно было, почему зюгановские гонители величали себя «прогрессивным крылом», как они собирались «осовременить программу» и перейти в «конструктивную оппозицию». А когда в рядах «прогрессистов» и «обновленцев» обнаружился широко и всесторонне известный генерал Альберт Макашов, у наблюдателей совсем мозги встали колом.
Между тем Макашову в этой компании не скучно, там таких «прогрессистов» много. Глядя на список «альтернативного ЦК», никак не скажешь, будто на смену одряхлевшим догматикам, оторвавшимся от жизни, рвутся молодые, современные левые, несущие трудящимся массам новый политический месседж. Ничего нового в их котомках не оказалось. Захватывающая дискуссия о судьбе партии в конце концов свелась к тому, кто и за сколько продался олигархам, куда делись вырученные деньги и кому нести знамя Ленина–Сталина дальше. Поэтому ее исход на судьбу партии не влиял. И Геннадий Зюганов, безусловно, прав: в КПРФ ничего не произошло. Ну, поскандалили, помяли друг другу имидж... В других партиях свары случаются и почаще, бывает даже, что лидеров выгоняют, – и ничего, в петлю из-за этого никто не полез.