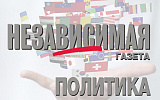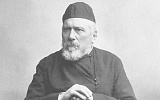Утагава Куниёси (1797–1861). Собака (Ину) – 11-й знак китайского календаря.
Утагава Куниёси (1797–1861). Собака (Ину) – 11-й знак китайского календаря.
Из серии «Двенадцать историй о прекрасных щитах (героях)». Ок. 1845
Пушкинский музей продолжает выпуск серии академических каталогов своего собрания. Наконец (и это главным образом результат долгой работы куратора отдела восточной графики – Беаты Григорьевны Вороновой) готов двухтомник по японской гравюре – около 1500 изображений, из которых 200 лучших представлены на выставке «Несравненное творенье этот бренный мир!».
Начало коллекции Музея изобразительных искусств было положено русским офицером-моряком Сергеем Китаевым, в конце XIX века начавшим покупать живописные и графические работы во время стоянок в японских портах. Со временем его собрание попало в цветаевский музей им. Пушкина, где активно расширялось. Сегодня в нем примерно 30 000 гравюр.
Период Эдо (1615–1868), с которым и связан расцвет японской ксилографии, обязан названием новой столице – сегодняшнему Токио. Если в Европе все города, а вместе с ними и городское третье сословие, давным-давно возвысились и громко заявили о своих вкусах, то в Японии этот неизбежный исторический процесс только набирал силу. И набрал-таки. В параллель гравюре укиё-э («искусству быстротекущего и изменчивого мира») развивалась «литература действительности» и живопись – тоже укиё-э (которую гравюра, как более доступная тиражная графика, часто заменяла). А поскольку источником всех трех был интерес к повседневной жизни с ее узнаваемой притягательностью и хрупкостью одновременно, то и темы искусства непосредственно связаны с «хроникой» этой мимолетности. Дальше, кстати, японскую гравюру с увлечением станут изучать великие европейцы – наглядный пример – вангоговский «Мост под дождем» в подражание Хиросигэ.
Отсюда, вернее, теперь уже оттуда: красавицы из «веселых кварталов» (разнообразию шелковых тканей которых впору завидовать сегодняшним модницам); портреты актеров и сцены из пьес Театра кабуки; книжные иллюстрации, афиши и поздравления по всевозможным поводам; нежно несущие «на своих плечах» груз символики цветы, птицы и животные; а также исторические сюжеты. Словом, здесь и актуальные тенденции, и аналог фото знаменитостей, и нечто вроде учебника по истории, и связанная с глубокой древностью (для Востока – дело святое) смысловая, знаковая насыщенность. И все это плотно задернуто бордовой портьерой (внизу, у самой лестницы, – видимо, защита от света) и приправлено тонким восточным ароматом икебаны.
Экспозиция носит просветительский характер – отражает развитие не только жанровое (скажем, активное взаимодействие с европейским искусством начиная с XIX столетия, когда арсенал тем расширяется – появляется копия голландской марины или изображение индустриальной выставки), но и развитие хронологическое. От ранних черно-белых или слегка подцвеченных листов до произведений XIX века, где праздник жизни торжествует грубоватыми анилиновыми цветами (в апогее число досок для цветности достигало 30, и государство даже ввело ограничения до 20–22). Расскажут о технологии, вольют в уши мелодичные японские названия.
Помимо того что уж точно известно всем – листов Хиросигэ из серии «53 станции Токайдо» (хотя и здесь есть нечасто воспроизводимый лист с ночным пейзажем – нечасто, поскольку после создания серии доски сгорели) – экспонируются работы из одноименной серии Хокусая (или «Малое Токайдо»). Другой аспект той же темы – «Токайдо в изображении красавиц» Кэйсая Эйсэна.
В принципе можно просто взять каталог. Но живьем увидеть ветхую, с загибами, или хорошей сохранности старую бумагу (некоторые гравюры, кстати, после реставрации – за что специалистам спасибо), которая где-то становится выпуклой от продавливания, где-то тает в сходящем на нет небе, а где-то, будто влажная, мерцает блестками; на которой распускаются цветы, выпадает снег и даже прилетают привидения – что ни говори, исключительное удовольствие. Убеждающее в том, что и бренность (а может, бренность преимущественно) есть источник вдохновения. Как выясняется, во все времена – ведь «в нашем мгновенном мире блуждаем мы» (Сайгё, XII век).