 В Москве, городе, в котором Лев Кассиль прожил 47 лет, улицы его имени нет. Но в городе Энгельсе есть ему памятник. Фото Владимира Захарина
В Москве, городе, в котором Лев Кассиль прожил 47 лет, улицы его имени нет. Но в городе Энгельсе есть ему памятник. Фото Владимира Захарина
10 июля исполняется 120 лет со дня рождения замечательного писателя Льва Кассиля (1905–1970). Его имя прочно ассоциируется с любимыми с детства «Кондуитом и Швамбранией» и, конечно же, книгами, сценариями, рассказами о детях и для детей. Именно Кассиль придумал идею «Книжной недели». Еще до войны он вел радиорепортажи с парадов и других ярких событий советской столицы, публиковал очерки в «Известиях» и других центральных изданиях, работал в детских журналах.
Многочисленные произведения Кассиля о футболе ввели в советскую литературу столь близкую многим тему спорта. Он объездил полмира, освещая с 1954 по 1968 год чемпионаты мира по хоккею и футболу, Олимпийские игры. Это Кассиль придумал скандировать «Молодцы!», поддерживая наших спортсменов. Не забывал он о футболе, освещая Гражданскую войну в Испании. Как никто, Лев Абрамович умел описывать болельщиков, стадионы, судей, обстановку вокруг матчей. Это ему принадлежала столь близкая современной спортивной журналистике идея показывать спорт изнутри: у кромки, в раздевалках, с трибун. Не случайно Лев Яшин назвал его «пионером советского футбола». По словам легендарного голкипера, «если бы мне вдруг предложили составить «33 лучших», сделавших много для развития футбола в нашей стране, одним из первых (да что там, под № 1!) я бы поставил Льва Кассиля».
Вот почему при подготовке второго издания книги «Война. Футбол. Холокост» мы обратились к творчеству писателя. И если по первым двум темам материала было с лихвой, то к судьбе евреев в годы войны Кассиль практически не обращался. А ведь именно в своей главной автобиографической книге он объяснял младшему брату (а вместе с ним и миллионам читателей), что евреи – такие же люди, как и остальные. И говорилось это в главе с очень точным названием – «Самоопределение Оськи», где с неподражаемым юмором писатель воспроизводил его изумленный вопрос: «Мама, – спрашивает Ося, уже садясь на постели, – мама, а наша кошка – тоже еврей?»
Возможно, благодаря изобретательному брату Кассиль и стал писателем. В заметках «Вслух про себя. Попытка автобиографии» Кассиль вспоминал о себе, студенте математического факультета МГУ: «Уже к третьему курсу меня неотвратимо потянуло писать. Желанию этому противостоять я не мог. Писать я учился в письмах домой… Потом выяснилось, что младший мой братишка Ося и его приятели берут у матери эти письма, перепечатывают их на машинке и помещают отрывки в местной газете, под заголовком «Письма из Москвы». За это им в редакции что-то платят, они не отказываются, берут гонорар, ходят в кино и едят пирожные за мое здоровье. Тут я стал подумывать, что и сам бы мог позаботиться о своем здоровье, не препоручая это моим волжским друзьям».
По словам писателя Юрия Нагибина, «жизнь далеко не всегда платила ему добром за добро. Он потерял горячо любимого брата, того самого очаровательного Оську, который всем нам стал другом после «Кондуита» и «Швамбрании». Действительно, судьба Иосифа сложится трагически. В тот самый 1937 год, когда на экраны вышел первый в СССР фильм о футболе «Вратарь» по сценарию его старшего брата, он был исключен из партии, а затем арестован. Формальной причиной стало первое самостоятельное литературное произведение Иосифа, опубликованное в литературном альманахе, редакцию которого он возглавлял. Благодаря публикации Алексея Голицына «Кто убил Кассиля? Дело антисоветской группы саратовских писателей» в журнале «Знамя» за 2017 год из документов следственного дела мы узнаем, что Лев сделал все, чтобы спасти брата и его жену. И это несмотря на то что в решении партийного собрания вуза, где преподавал Иосиф, о его исключении из партии отдельно говорилось: «сообщить в Московскую орг. писателей о Л. Кассиль о том, что последний считает, что в книге И. Кассиль ничего вредного нет». В анкете арестованного 4 августа 1937 года Иосифа указано: «Кассиль Лев Абрамович, брат, писатель, г. Москва». Под пытками у Иосифа Кассиля было выбито признание, что он состоял в троцкистской организации, умышленно написал антисоветскую повесть и «рекомендовал студентам троцкистскую литературу в качестве учебных пособий, превозносил перед студентами врага народа Бухарина, изображая его в качестве непревзойденного теоретика марксизма».
Мы уже говорили выше, какими яркими были письма Льва родителям. Те, что публиковал Оська, увы, не сохранились. А вот переписка его старшего брата была недавно обнаружена в семейном архиве родственников писателя. Некоторые из них были представлены на юбилейном научном заседании 7 июля 2025 года в Москве в Государственном литературном музее имени В.И. Даля. Пытаясь хоть как-то успокоить родителей, которые не могли не понимать, что опасность грозит и старшему сыну, Лев Абрамович сообщает 17 октября 1937 года, что по поручению правления Союза писателей ему доверено прочесть лекцию о социалистической законности на основании статей и выступлений… Андрея Вышинского, прокурора СССР и главного обвинителя на московских процессах против лидеров оппозиции. Но вскоре после получения этого письма родители братьев узнали, что 27 ноября 1937 года арестована жена Иосифа, студентка 5-го курса Зинаида Солдатова. «В этот ужасный день Наточку забрали в дет. дом, меня в тюрьму, квартиру опечатали», – вспоминала об аресте и судьбе шестилетней дочери Зинаида Петровна, отправленная на восемь лет в ссылку за отказ развестись с мужем.
21 января 1938 года Иосиф Кассиль был расстрелян. Об этом его родные узнают только в 1945-м. Все их ходатайства и просьбы сообщить о судьбе Иосифа и его жены остаются без ответа. Лев Кассиль обращается сначала к Вышинскому, а затем к сменившему его на посту прокурора СССР Панкратьеву. В письме первому говорится: «Присоединяясь к просьбе отца моего, врача Кассиль А.Г., о выяснении судьбы моего брата Кассиль Иосифа Абрамовича и его жены Кассиль Зинаиды Петровны, со своей стороны убедительно прошу прокуратуру Союза заново пересмотреть дело брата и его жены. […] Зная брата как очень искреннего и прямолинейного человека, до наивности восторженного, глубоко советского, истового коммуниста, всегда, даже в самых интимных беседах беспредельно преклонявшегося перед мудростью и величием товарища Сталина, я не в состоянии представить, что он мог хоть в чем-нибудь, хоть одним краем своей еще очень мальчишеской души смыкаться с врагами. […]
Уважаемый товарищ Вышинский, поверьте мне, что у меня найдется достаточно сил, чтобы не быть снисходительным даже к родному брату, если вина его перед Революцией подтвердится. Но сейчас, когда все дело полно такой непроглядной тьмы и более полутора лет я ничего не знаю о судьбе брата, а семья его разбита, ибо жена его, мать семилетнего ребенка, тоже выслана. Сейчас, неуверенный в справедливости следствия и приговора, я умоляю Вас во имя закона, во имя простой революционной целесообразности, во имя великих прав советского человека пересмотреть это дело и в первую очередь по отношению к жене брата, которой не были предъявлены никакие обвинения перед ссылкой».
Несмотря на столь очевидные и небезопасные сомнения в «социалистической законности», судьба самого Льва Кассиля внешне складывается вполне благополучно. «Кондуит и Швамбрания» выходят в Польше, США, Канаде, Франции. В том же письме от 17 октября 1937 года Лев сообщает родителям, что неожиданно получил чек на 1000 франков из парижского банка. Правда, эту книгу после казни Иосифа в СССР переиздадут только через 20 лет. Но огромным успехом пользуется опубликованная на основе сценария нашумевшего фильма книга «Вратарь Республики». 31 января 1939 года Лев Кассиль получает свою первую правительственную награду – орден «Знак почета».
Великая Отечественная война застала Льва Кассиля в Москве. В город Энгельс идут уже не подробные письма, а открытки с текстом, напечатанным на пишущей машинке, и несколькими словами или строчками, вписанными от руки на лицевой стороне. Одна из них, от 22 июля 1941 года, начинается словом «Месяц». Месяц после начала войны, рассказ о первом налете немецкой авиации на Москву, описание мужественного настроения москвичей и отсутствия паники. Кассиль живет на даче в Переделкине. Рассказывая о своем быте, мимоходом замечает, что сильно надоело «жужжание «юнкерсов» по ночам». В другой весточке говорится, что вместе с писателем Катаевым решили соорудить на даче блиндаж, так как зимой оставаться в Москве будет непросто. Во второй половине августа вместо «г. Энгельс, Республика немцев Поволжья» адрес на открытке начинается со слов «Энгельс-на-Волге». Вскоре писатель оказывается в Свердловске. Удивительно, но в декабрьском письме 1941 года цензура не обращает внимания на достаточно закрытую информацию, что передачи Всесоюзного радио, с которым тесно сотрудничает Лев Кассиль, ведутся не только из Москвы, но и из Свердловска и Куйбышева.
В марте 42-го писатель опять оказывается в Москве. Он активно сотрудничает с «Известиями». И конечно же, главные герои его рассказов, очерков, повестей – дети. 26 марта 1942 года в газете «Известия» появляется его большая статья «Ироды». Любопытно, что за полтора месяца до этого, 12 февраля 1942 года, в газете «Красная звезда» публикуется небольшая заметка Ильи Эренбурга с точно таким же заголовком. Но если Эренбург сообщает о немецких приказах относительно детей, то Лев Кассиль подробно рассказывает о выставке в Москве, посвященной детским жертвам нацистов. Ее начало почти повторяет первую фразу Эренбурга о древнем царе, имя которого стало нарицательным, поэтому вся немецкая армия – армия убийц. Но Кассиль связывает имя Ирода с Гитлером, который наслал на нашу землю «целую орду выпестованных им иродов, тщательно обученных убийству не только взрослых, но и детей». Среди многочисленных примеров единичных казней детей и подростков, издевательств над ними в разных областях России особо выделяется рассказ о событиях в ненадолго освобожденной нашим десантом Керчи. Здесь расстреляли 245 школьников, которых собрали в школе и вывели якобы на прогулку. Среди казненных в Керчи 7000 мирных жителей большинство были евреями. Лишь намеками о трагедии евреев Керчи говорится в его (совместной с Максом Поляновским) книге «Улица младшего сына», принесшей Кассилю в 1951 году Сталинскую премию.
С середины 1942 года и до конца войны капитан административной службы Лев Кассиль – фронтовой корреспондент на Северном флоте, затем на Западном и Первом Украинском фронтах, выступает на радио, в школах, воинских частях, на предприятиях Москвы и Урала. Осенью 1942 года он присылал свои корреспонденции в «Известия» из-за Полярного круга. И кратко сообщал о себе родителям из г. Полярный, где размещалось Политическое управление Северного флота:
«9 сентября 1942. Дорогие мои! Я жив (это главное при ситуации, в которой я был), здоров (что тоже довольно существенно при данных обстоятельствах), бодр (несмотря на некоторую усталость и беспрестанную тревогу за вас…). На днях вернулся сюда с Крайнего Севера, был в суровых условиях фронта. Плавал на миноносце, катерах, ботах, был на подлодках и т.д. Приходилось быть и на переднем крае наземного фронта. Через день-другой двинусь на юг, сперва в Мурманск, а оттуда – в Москву. Материал Воен. Флота так интересен, отношение ко мне везде, и на кораблях, и на фронте, в частях морской пехоты, такое любовное, что тяжелый осадок, лежавший у меня на сердце после провала дальнего плавания, несколько рассосался, и мне не так тяжело теперь вернуться домой. […] Чувствую я себя физически хорошо, и вообще, посмотрели б вы, каким заправским морячишкой выгляжу я в командирской форме Воен. Флота. Целую, Лева».
В этот же период времени Лев Абрамович пишет один из своих лучших рассказов о футболе в годы Великой Отечественной войны – «Состоится при всякой погоде» (другое название: «Состоится при любой погоде...»). Он начинается воспоминаниями, которые нашли отражение в других его рассказах на футбольную тему:
«Мне довелось видеть игру на юге Турции, когда песчаный ураган обрушился на футбольную площадку, опрокинул ворота и судью мы с трудом нашли под трибуной, куда укатил его ветер. Я видел матч на Волге, близ Саратова, в полузатопленном во время паводка городке, когда стадион, чудом уцелевший на острове, походил на Ноев ковчег во время потопа, с той только разницей, что голуби, несшие благую весть, не прилетали извне, а вышвыривались из-за пазухи болельщиков, когда брала верх местная команда. Был я также на памятном матче команд Валенсии и Барселоны, когда шла в Испании гражданская война и каждый из восемнадцати тысяч зрителей, пришедших на стадион, прочел перед входом воззвание комендатуры и муниципалитета, объяснявшее гражданам Валенсии опасность всякого рода людских скоплений ввиду угрозы воздушного нападения…
Но ни одна из этих игр не может сравниться с матчем, на котором довелось мне недавно присутствовать за Полярным кругом, на одной из баз Действующего Северного флота (...) в воздухе сыпалась мелкая изморось, но, как всегда, на афишах значилось: «Матч состоится при всякой погоде». Мастерски описан маленький самый северный стадион мира «на каменистом плато, обрывающемся в море»; зрители, среди которых были британские, канадские и американские моряки. Команды базы подводного плавания и дивизиона минных заградителей разыгрывали Кубок северных морей. И конечно же, главными героями рассказа стали вратари. Любопытно, что название этого кубка Кассиль ввел в сценарий художественного фильма «Удар! Еще удар!», по сюжету которого в 1967 году в Ленинграде состоялся финальный матч Кубка северных морей между командами «Заря» (Ленинград, СССР) и «Рифы» (Нордгаффен, ФРГ). За этот сценарий Кассиль был удостоен Хрустального кубка и диплома Союза кинематографистов Грузии на Всесоюзном кинофестивале спортивных фильмов 1968 года в Тбилиси.
Не упоминает писатель жертв Холокоста и в очерке «Освенцим», опубликованном уже после окончания войны. По данным Музея Льва Кассиля в Энгельсе, «после освобождения концлагеря Освенцим одним из первых советских журналистов там побывал спецкор «Огонька» Л.А. Кассиль». Очерк писателя с подзаголовком «Мир должен знать, видеть, помнить это!» был опубликован 17 июня 1945 года в журнале «Огонек». Некоторые эпизоды действительно описаны глазами очевидца. Но был ли писатель в самом лагере? Или он имел возможность посмотреть созданный к этому времени одноименный документальный фильм? В нем представлен снабженный необычной иллюстрацией малоизвестный даже исследователям этой самой крупной фабрики смерти факт: «…мерзавцы, которые ведали убийством, еще способны были веселиться. Они слагали циничные куплеты и заставляли распевать их смертников. В часы досуга между двумя порциями убийств они рисовали карикатуры. Вот одна из них. Это «дружеский шарж», нарисованный одним убийцей на другого.
Взгляните на этот рисунок, аккуратно вклеенную фотографию благообразного мерзавца, на страшный счет, который он держит у открытой печи крематория, отправляя в нее 20-тысячный труп задушенного...» Этот необычный документ мог быть передан Льву Кассилю его коллегой из «Комсомольской правды» Сергеем Крушинским, который не только одним из первых в своей статье описал эту фабрику смерти, но и сообщил в Москву о необходимости срочно выслать квалифицированных медиков и предотвратить уничтожение немецких архивов.
Можно лишь догадываться, почему Лев Кассиль не привел никаких данных об уничтожении именно евреев. Было ли это данью самоцензуре либо пониманием того, что об этой теме можно упоминать лишь между строк? Ведь даже Василию Гроссману очерк «Украина без евреев» удалось опубликовать в годы войны только на идише. Несомненно, одна из причин – это то, что евреи не были выделены в сообщении Чрезвычайной государственной комиссии, опубликованном в центральной прессе 8 мая 1945 года (на него ссылается автор очерка). Но, может быть, все-таки главная причина была в другом. Обратимся к повести «Швамбрания», где от имени 10-летнего тогда автора рассказано об одном уроке в дореволюционной гимназии:
«Шли занятия по выразительному чтению. В классе по очереди читали «Тараса Бульбу». Мне досталось читать место, где запорожцы кидают в Днепр ни в чем неповинных евреев, а те тонут... Мне до слез было жалко несчастных. Мне было тошно читать. А весь класс, обернувшись ко мне, слушал, кто просто с жестоким любопытством, кто с нахальной усмешкой, кто с открытым злорадством. Ведь я, я тоже был из тех, кого топили веселые казаки... Меня осматривали как наглядное пособие. А Гоголь, Гоголь, такой хороший, смешной писатель, сам гадко издевался вместе с казаками над мелькавшими в воздухе еврейскими ногами. Класс хохотал. И я почувствовал, что тону в собственных слезах, как евреи в Днепре.
– Я не буду читать больше, – сказал я учителю Озерникову, – не буду. И все!.. Гадость! Довольно стыдно Гоголю так писать.
– Ну, ну! – заорал грубый Озерников. – Критику будем проходить в четвертом классе. А сейчас заткни фонтан.
И я заткнул фонтан».
А завершает очерки Льва Абрамовича о войне репортаж о Параде Победы, опубликованный 26 июня 1945 году в «Известиях». В 1945 году Кассиль был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону советского Заполярья». После войны он блестяще ведет семинар в Литературном институте. Но в период борьбы с космополитизмом его книги подвергаются критике в печати. А сам он вынужден прекратить преподавательскую деятельность. В феврале 1953-го ему пришлось (как и нескольким десяткам представителей еврейской интеллигенции) подписать письмо с осуждением врачей-вредителей и поддержкой переселения евреев СССР на Дальний Восток. Несомненно, это было для него тягчайшей психологической травмой. Ведь среди осужденных по делу Еврейского антифашистского комитета был его близкий друг и тезка Лев Квитко. В ноябре 1960 года Кассиль, выступая на вечере памяти этого казненного поэта, заявил: «…враги, погубившие Квитко, – наши враги, враги нашей культуры… нашего советского строя…» «Это место в его речи вызвало гром аплодисментов», – отметил в дневнике Корней Чуковский. Решительно действовал Лев Абрамович и в ходе необычной литературной дискуссии, связанной с темой антисемитизма в стихотворении Евгения Евтушенко «Бабий Яр». После того как газета «Литература и жизнь» опубликовала стихотворение «Мой ответ» Алексея Маркова (отклик на «Бабий Яр»), где Евтушенко обвинялся в клевете на русский народ, Лев Абрамович вышел из состава редколлегии этого издания. Писатель сообщил Илье Эренбургу, чье имя затрагивалось в другой публикации: «…т.к. на страницах газеты «Литература и жизнь», среди членов редколлегии которой значусь до сих пор и я, в статье «Об одном стихотворении» автор позволил себе бессовестно спекулировать на Вашем большом и всем нам дорогом имени, я считаю нужным поставить Вас в известность, что еще 23 сентября, на другой же день после напечатания отвратительнейших стихов Маркова «Мой ответ», я официально, в письменной форме, заявил руководству Союза писателей РСФСР и редакции «Лит. и жизнь», что не считаю себя больше членом редколлегии газеты и прошу снять мою фамилию из списка ее членов». Эренбург высоко оценил этот поступок: «Дорогой Лев Абрамович, мне приятно было получить Ваше письмо. Я всецело понимаю Ваш поступок и думаю, что так должен был поступить любой национальности любой советский человек, не имеющий ничего общего с неочерносотенцами».
С 1965 года Лев Кассиль являлся членом-корреспондентом Академии педагогических наук Советского Союза.
Писатель скончался 21 июня 1970 года в результате сердечного приступа, случившегося во время просмотра телетрансляции финального матча чемпионата мира по футболу. Он похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.
Юрий Нагибин справедливо отмечал: «У Льва Кассиля были две главные темы: дети и спорт… он любил спорт, любил преданно и страстно, до конца дней, прежде всего за чистую борьбу, за то, что в настоящем спорте дело решается в открытую, правом истинного, а не мнимого преимущества, – это соответствовало его этическому кредо… Этот худой, узкоплечий, с очками на добрых, грустных глазах кабинетный человек был настоящим спортсменом, если подразумевать под этим не быстрые секунды и рекордные метры, а нечто куда более важное: стойкость, мужество, благородство, умение жить сверх отпущенных природой сил».
Одна из посмертно изданных книг писателя носит название «Три страны, которых нет на карте. Швамбрания, Синегория и Джунгахора» (М., 1980). Свою главную литературную премию он получил (в 1951 году) за книгу «Улица младшего сына». Удивительно, но в Москве, городе, в котором он прожил 47 лет, улицы его имени нет.




















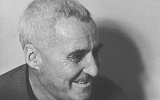



комментарии(0)