 Отрицание России во имя блага человечества есть ограбление человечества. Фото Владимира Захарина
Отрицание России во имя блага человечества есть ограбление человечества. Фото Владимира Захарина
Александр Блок сказал, что для писателя главное – чувство пути. У Бориса Евсеева нет случайных книг, хотя он выпустил их уже несколько десятков. Все его книги вписываются в единый замысел, который он последовательно воплощает всю свою жизнь. Даже не воплощенные еще сюжеты у него заранее предусмотрены, как в таблице Менделеева предугаданы еще не открытые элементы. У общего замысла Бориса Евсеева много составляющих, но я бы выделил три, на мой взгляд, главных, созвучных мандельштамовской строке, которую так любил Маяковский: «Россия, Лета, Лорелея». У Евсеева эта строка в ее преображенном виде выглядит, мне кажется, так: «Россия – Слово – Предречение». Все эти три свойства воплощены в его эссе, вышедших недавно двумя прекрасно оформленными книгами.
Прежде всего они все о России – разве что за исключением тех, что посвящены таким авторам, как Тимур Зульфикаров, Ли Кю Хён, Камал Абдулла или Отар Чиладзе, но уж это по принципу: тот Англии не знает, кто знает только Англию. Евсеев знает не только Россию и даже не только литературу, добавлю я, но и музыку, поскольку как скрипач учился в Гнесинке. Знание музыки позволило ему написать роман о Евстигнее Фомине, а также эссе об Ипполитове-Иванове, Пахмутовой, о романе Максима Замшева «Концертмейстер», воссоздающем трагическую, изломанную судьбу замечательного композитора Александра Локшина, затравленного собратьями по ложному обвинению в доносительстве: «Сейчас установлено – и роман Замшева это убедительно подтверждает – никаких доносов Локшин не писал! Это была спецоперация под названием «мнимый агент», проведенная на свой страх и риск майором МГБ». И дальше ремарка: «Но попробуй докажи…» И Евсеев – вслед за Максимом Замшевым – доказал и разобрался.
Но помогла ему в этом не только музыкальная образованность. Евсеев – вслед за такими писателями, как Алексей Ремизов, мучается Россией, жаждет ее, томится, изнывает по ней, грозит ей, как Пушкин Медному всаднику: «Ужо тебе!» – страдальчески проклинает ее там, где она отступает от предначертанного пути: «Русь, Русь, когда же мы познаем твои глубины, а не трескучую пену дней, не хлам поверхностной жизни? Трудно сказать. Но чтобы Русь тайную и явную, Русь тогдашнюю и Русь сегодняшнюю постичь до донца, отечественное мировидение и вся наша литература остро нуждаются в постоянном общении с живым и незаёмным словом Алексея Ремизова».

|
|
Борис Евсеев. Письмена на коже: Опыты и раздумья. – М.: Русский ПЕН-центр, 2024. – 384 с. |
Василия Васильевича Розанова кем только не называли при его жизни! Он сам охотно давал для этого поводы, как бы поворачиваясь к критикам то одним, то другим бочком, выставляя на обозрение то локоток, торчащий из драного рукава, то большой палец ступни, выпирающий из дырявого башмака, то выпячивая грудь, то показывая зад, как торговка на рынке, а то и бахвалясь еще чем похуже. Сам же он считал себя – правда, не без преувеличения – одновременно и последним, и первым русским писателем: последним – по времени и первым – по значению. Словом, был этаким гофмановским Крошкой Цахесом на русский манер. Евсеев к Розанову подчас беспощаден: «Розанов – почти велик. Розанов – временами ничтожен». По Евсееву, его портила болтливая «достоевщинка, причем явно смердяковского толка». Есть большой соблазн с этим согласиться, хотя так и тянет поспорить. Хочется доказать Евсееву, что розановская «болтливость», проговаривание излюбленных мыслей – проговаривание с запинками, спотыканием, заиканием, пришепетыванием, повторами, оговорками – это его, если угодно, литературный прием или даже метод Василия Васильевича (который и свою фамилию выводил из розана на вывеске булочной). Без этого метода, возможно, и не было бы Розанова как писателя, автора «Опавших листьев». Без этого Розанов улетучился бы, словно дымок, и растаял на горизонте русской литературы. Все это так, но с той оговоркой, что спорить с Евсеевым всегда интересно. Не соглашаться с ним поучительно, как, помню, я не соглашался с его мнением, что сибирский старец Федор Кузьмич вовсе не был Александром I, инсценировавшим свою смерть в Таганроге и ушедшим в затвор и схиму, чтобы замолить грех невольного соучастия в убийстве отца. Но аргументы Евсеева дразнили, цепляли, оказывались прилипчивыми, как осенние паутинки. И спор с ним не опустошал, как это иногда бывает, а обогащал новыми оттенками мысли, доводами и примерами. Вот так же и его книги, впитавшие в себя многое от устных споров, а главное, внутренних монологов автора с самим собой: они тревожат, раздражают, но при этом обогащают и стимулируют мысль. И к тому же доставляют удовольствие тем, кто имеет хоть какую-то склонность не только следить за содержанием, но и смаковать язык произведения, будь то художественная проза или эссе.
Борис Евсеев одержим, заворожен, исступлен словом. Он словом любуется, иногда забавляется, играет и блажит. Ему близко мандельштамовское: «За блаженное, бессмысленное слово…», хотя Евсеев прежде всего смысловик. Иногда слово у него гугнивое и даже юродское – не случайно одна из его ранних повестей – «Юрод». Как южанин он придает своему слову терпкость и тот винный привкус, который так манит нас у писателей одесской школы. Есть у Евсеева особо выделенные и выделанные слова: куклак (сказка «Куклак Петра Великого»), банжонок (рассказ «Банджо и сакс), зашквар, живорез, звукодум, англояз (о засилье англосаксонской лексики). Евсеева попросту мутит от таких, к примеру, перлов англояза: «Словил деструктивный экспириенс в ватерклозете» (в офисной уборной закончилась бумага). Это вам не северянинские грезерки и не изощренные неологизмы Хлебникова, а та самая англомуть, которая, по Евсееву, тиранит наш язык.

|
|
Борис Евсеев. Ангел речи: Лекции, эссе, эскизы. – М.: Центр им. Н.А. Бердяева, Библио ТВ, 2025. – 304 с. |
Вот евсеевский портрет Куприна: «Первое и самое важное – он настоящий Евразиец. Человек, который представлял собой Восток и Запад одновременно. Княжеская татарская и русская дворянская кровь слились в нем в один мощный поток. Что-то от Чингисхана. Что-то от Ивана Грозного. Что-то от циркового атлета (Корней Чуковский говорил, что он рояль мог поднять за одну ножку) и при этом женское, наивно-трепетное начало, которое – при всей грузности и задиристости Куприна – часто в нем проступало».
А вот как пишет Борис Евсеев о романе Александра Мелихова «Испепеленный»: «Скорбная красота вступления и следующие за ним «азиатские» струйно-ассоциативные эскизы, доводящие до спазма, до обморока, – эскизы, от которых веет не потом, а духом, эскизы, сменяемые ленинградскими, с неимоверной зоркостью высмотренными деталями – ошеломляют и сотрясают». Струйно-ассоциативной выглядит здесь и мысль самого Евсеева. При оценке замечательного романа он не скрывает накала собственных переживаний, а выводит суждение из своего читательского потрясения – из того спазма и обморока, в которые повергает его словесная ткань высокой прозы и в коих не всякий критик признается. Не всякий, а лишь тот, для кого эссенция мысли, ее эмоциональная взметенность и полетность дороже рационально выверенного и холодного анализа.
И еще два слова о предвидениях Бориса Евсеева. Он сам рассказывает в книге, как его роман «Отреченные гимны» отказывались печатать, потому что там предсказывались события на Украине, и не как некая фантасмагория, а как вполне реальные события. «Как это может быть! – возмущались в редакциях. – Это абсурд! Нелепость!» – «А вот так», – отвечает Евсеев и высказывает при этом мысль, поражающую своей глубиной: не смерть есть следствие войны, а война есть следствие смерти.
Помню наши разговоры тех времен, когда Евсеев преподавал в Институте журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ), вел там класс прозы, а я был ректором. Едва он заходил ко мне в кабинет, я, взбудораженный текущими событиями, все пытал его: «Что будет?.. Что будет?..» И Евсеев отвечал с присущей ему прозорливостью, которую он сам называет опережающим отражением действительности: «Такое отражение возникает при соприкосновении земной жизни человека с жизнью высшей, которая, впрочем, накрепко от нас спрятана». И все выходило, как он сказал. Значит, Борис Евсеев в какой-то степени обладает этим даром – опережать, как и герой его романа «Очевидец грядущего» монах Авель, предсказавший многие события нынешнего века. Евсеев во многом сам такой провозвестник, хотя не всегда раскрывает свои секреты. К тому же жизнь высшая, по его словам, от нас все-таки спрятана.
Лишь однажды я усомнился в предсказаниях Бориса: когда, опираясь на собственные понятия, он пытался обрисовать будущее нашей литературы. Нет, оставим за литературой право – быть непредсказуемой, как фраза любимого им Андрея Платонова: «Он сел, чтобы посидеть немного». Если бы сел для чего-то другого, тут все было бы удручающе ясно. А раз сел именно для того, чтобы посидеть (и тем самым возмутить всех редакторов с их красными карандашами), то, значит, не все потеряно и между словами остается зазор для того волшебного сквознячка, который и есть искусство прозы.
В том числе прозы и эссеистики самого Бориса Евсеева.



























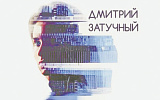


комментарии(0)