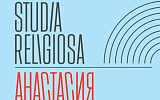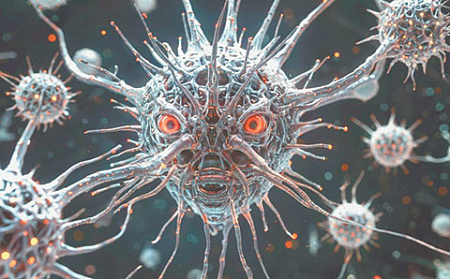 Переход от лабораторной колбы к планетной биосфере и от нее – к нарушению симметрии в космологических масштабах, конечно, сам по себе заслуживает философской рефлексии. Иллюстрация создана с помощью GigaChat
Переход от лабораторной колбы к планетной биосфере и от нее – к нарушению симметрии в космологических масштабах, конечно, сам по себе заслуживает философской рефлексии. Иллюстрация создана с помощью GigaChat
Эволюция просто не способна создать жизнь в том виде (на той материальной основе), которую мы все сегодня знаем...
Если 1) взять едва ли не самые простые биомакромолекулы – полимерные цепочки длиной в пару-тройку сотен звеньев;
если 2) строить такие цепочки из черных и белых шариков, что соответствует левым и правым мономерам…
то число цепей, различающихся последовательностью белых и черных шариков, будет около 10100. Это просто катастрофически большое число! Например, оно больше числа электронов во Вселенной.
Можно привести и другое сравнение. Допустим, в нашем распоряжении будет масса органического материала, равная массе Земли; допустим также, что у нас будет возможность задействовать самые быстрые химические процессы, синтезировать каждую последовательность только один раз и заниматься этим все время существования Вселенной… В результате удастся получить лишь ничтожную часть всех возможных вариантов последовательностей, в том же примерно соотношении, как одна капля воды ко всему Мировому океану.
Это означает, что природа не имеет никаких шансов перебрать все возможные варианты даже достаточно коротких полимерных последовательностей, не говоря уже о последовательностях длиной в тысячи и миллионы звеньев с тем, чтобы выбрать из них ту, которая ляжет в основу возникновения биологической жизни.
Протожизнь
Но жизнь все же возникла. Как, из чего, каков закон ее динамики? Свой вариант решения этой проблемы предложила группа исследователей из Гарварда под руководством физика-теоретика Хуана Переса-Меркадера. В недавнем эксперименте ученым удалось показать, как самопроизвольно возникает система, которая, не являясь живой в биологическом смысле, демонстрирует поразительно «живое» поведение. В частности, эта протожизнь умеет размножаться и эволюционировать. Результаты опубликованы в статье «Саморепродукция как автономный процесс роста и реорганизации в полностью абиотических, искусственных и синтетических клетках» («Self-reproduction as an autonomous process of growth and reorganization in fully abiotic, artificial and synthetic cells». Proc. Natl. Acad. Sci.U.S.A. 122 (22) 2025).
Но это именно протожизнь, поскольку то, что получили Хуан Перес-Меркадер с коллегами, по-другому можно назвать рацемат. То есть смесь, в которой не нарушена симметрия между левыми и правыми мономерами. Другими словами, отсутствует хиральная чистота. Выдающийся химфизик, академик Виталий Гольданский так объяснял этот эффект.
«В 1848 году Луи Пастер открыл зеркальную изомерию органических молекул. Оказалось, что многие молекулы могут существовать в двух структурных формах, схожих и вместе с тем отличных друг от друга, как левая и правая перчатки, левая и правая ладони, – пояснял академик Гольданский. – Левая ладонь идентична правой, если отразить ее в зеркале. В мире молекул есть точные аналогии правой и левой рук: так называемые молекулы – зеркальные антиподы. Такие зеркально отраженные формы одного и того же химического соединения называют оптическими изомерами, поскольку они отличаются друг от друга тем, что вращают плоскость поляризации проходящего через них света в противоположные стороны».
Эта особенность молекул существовать в двух зеркально-антиподных формах получила в науке название хиральность (от греческого «хирос» – рука). К числу органических веществ, обладающих этим свойством, принадлежат аминокислоты и сахара – «кирпичики» самых главных биологических макромолекул – белков и нуклеиновых кислот. Вообще говоря, существуют «левые» и «правые» аминокислоты и «левые» и «правые» сахара. Но оказывается, что живой природе присуща абсолютная хиральная чистота: белки содержат только «левые» аминокислоты, а ДНК и РНК – только «правые» сахара. Если равное содержание в смеси левых и правых изомеров – в химии такие смеси и называются рацематами, – это зеркально симметричное состояние вещества, то хиральная чистота соответствует полному нарушению его зеркальной симметрии…
Но, строго говоря, в эксперименте у гарвардцев из группы Хуана Переса-Меркадера не было даже рацемата. Собственно, и биологических мономеров не было. А что же было? Лабораторная колба, вода… В колбе – смесь четырех неорганических простых углеродных соединений. Плюс зеленые светодиоды, обмотанные вокруг колбы. Под действием их свечения молекулы вступали в реакцию, образуя так называемые амфифилы – молекулы вещества, имеющие одновременно гидрофильную «голову» и гидрофобный «хвост». В воде эти молекулы прячут свои водобоязненные «хвосты» внутрь, образуя крошечные шарики – мицеллы (мицелярная вода – это отсюда). Постепенно они образуют более крупные и сложные структуры – везикулы: полые пузырьки, внутри которых заперта жидкость.
Оказалось, что химический состав жидкости внутри везикулы начал отличаться от окружающей среды. А ведь это важнейший признак живой клетки – обособленность от внешней среды. То есть всего в несколько итераций из хаотичной смеси простых веществ под действием света родилась упорядоченная, структурированная система. Очень осторожно можно констатировать, что в Гарварде создана модельная система возникновения живых клеток.
Биомолекулярный бульон
Между прочим современный эксперимент гарвардцев идеологически напоминает знаменитый, уже классический, эксперимент Миллера–Юри. Результаты этого классического уже эксперимента впервые были опубликованы Стэнли Миллером в 1953 году в ведущем научном журнале Science. Принципиальная разница в том, что Перес-Меркадер использовал неорганику, а Миллер и Юри – органические молекулы, хотя и простейшие.
И в том и другом случаях ученые фактически задались целью смоделировать условия на ранней Земле и проверить гипотезу о том, что органические соединения (например, аминокислоты) могут спонтанно образовываться из простых неорганических веществ при воздействии внешнего источника энергии.
Экспериментальная установка Миллера–Юри состояла из двух колб, соединенных трубками. Одна из колб (500 мл) была заполнена водой, играя роль «океана». А во вторую (5 л) нагнеталась смесь газов – метан (CH4), аммиак (NH3), водород (H2) в определенном соотношении. Воду в первой колбе кипятили, образующийся пар попадал в газовую часть системы. Там между электродами пропускался электрический разряд, имитирующий атмосферную ситуацию ранней Земли. Через конденсаторы-охладители образовавшиеся жидкости собирались в ловушку для анализа. Эксперимент длился около недели.
Уже через сутки содержимое ловушки приобрело розовый оттенок, а через неделю жидкость стала мутной и красновато-коричневой. Анализ показал, что образовались органические молекулы, в том числе аминокислоты (глицин, аланин и другие) – базовые строительные блоки для белков. Позднее при повторном анализе образцов с помощью более современных методов было обнаружено более 20 различных аминокислот (строительные блоки молекул ДНК и РНК). Были идентифицированы и простые сахара; различные липидные соединения, которые также являются важнейшими компонентами живых организмов.
Таким образом, эксперимент стал доказательством того, что органические молекулы могут спонтанно образовываться из неорганических при соответствующих условиях, подтвердив гипотезу абиогенного (безжизненного) происхождения «кирпичиков жизни». Возможность синтеза базовых биомолекул в условиях молодой Земли.
Но, увы, это тоже был только рацемат. Никакой хиральной чистоты.
Из мухи – в слона
Здесь и начинаются труднообъяснимые пока и поразительные эффекты спонтанного «строительства» жизни живой клеткой.
Еще в древности философы пытались понять, как возникла жизнь. Одним из первых был Аристотель, который утверждал, что живые существа могут возникать из неживой материи – теория «автогенеза» или «спонтанное рождение». Например, считалось, что мухи могут рождаться из «пылающей плоти», то есть из гниющего мяса. Однако в XVII–XIX веках эксперименты таких ученых, как Франческо Реди и Луи Пастер, показали, что зарождение живых организмов из неживой материи невозможно.
Впрочем, еще весь XVIII век и кабинетные философы, и естествоиспытатели настаивали на возможности самозарождения жизни. Выдающийся отечественный зоолог Николай Холодковский, сделавший в 1911 году отменный перевод на русский язык дидактической поэмы Эразма Дарвина (дед Чарлза Дарвина) «Храм природы» («The Temple of Nature», 1803), в предисловии к своей публикации отмечал: « подробно возражает против «предрассудков», препятствующих признанию учения о произвольном зарождении, приводя в пользу этого учения как теоретические доводы, так и «экспериментальные факты» и ссылаясь на Бюффона, Реомюра, Эллиса, Ингенгоуза, доказавших, по его мнению, что при соблюдении надлежащих условий теплоты и питания в различных настоях зарождаются микроскопические существа». (Журнал Министерства народного просвещения. 1911. Март. – С.-Петербург.)
Любопытно, что Эразм Дарвин фактически привел в своей поэме описание и будущих экспериментов Миллера–Юри, а пожалуй, отчасти и Хуана Переса-Меркадера. Вот этот отрывок:
Сперва возник, при разложеньи
тел
Химическом, великий жар; он
крылья
Дал веществу – стремиться
за предел
Упругости; напрягши все
усилья,
Произвело Отталкивание
взрыв,
Часть в жидкость, часть же
в газ преобразив…
Так без отца, без матери, одни
Возникли произвольно в эти
дни
Живого праха первые
комочки… (с. 18)
Современная наука все настойчивее рассматривает спонтанное зарождение сложных биомолекул, а из них – живых организмов из «химического» хаоса.
Альтернативная точка зрения – жизнь стала результатом постепенного процесса, проходя через многоэтапную химическую эволюцию, когда простейшие молекулы образовывали все более и более сложные соединения и структуры, способные к самовоспроизводству.
Доктор физико-математических наук, профессор Владик Аветисов в одном из своих интервью очень наглядно представил всю невероятную сложность объяснения динамики химической эволюции: «В живой клетке с поразительной легкостью строятся молекулы белков длиной, например, в 300 аминокислот. Сложность состоит в том, что в каждом определенном месте вдоль цепи должна стоять строго определенная аминокислота. И это – тривиальная задача для клетки. Буквально за несколько минут клетка в состоянии синтезировать пару тысяч разновидностей таких сложных молекул. И все они будут точными копиями нужных последовательностей.
В то же время если я попробую наладить чисто «химическое производство» хотя бы одной такой последовательности и попытаюсь дождаться ощутимого результата, то я его не получу. Даже если задействую все элементные ресурсы Вселенной и у меня хватит терпения ждать все время ее жизни от момента Большого взрыва. А клетка, повторяю, с этим справляется, так сказать, запросто. Более того, она с той же легкостью может строить и такие гигантские молекулы длиной не в 300, а в 300 млн звеньев! – как ДНК».
В конце концов, рост сложности молекулярных структур, вовлекаемых в процесс предбиологической химической эволюции, может привести к неустойчивости зеркально симметричного состояния среды и в результате к ее спонтанному разрушению, то есть к разрушению рацемата. И это – предпосылка возникновения хирально чистой жизни.
Сегодня ученые активно исследуют возможность возникновения процессов спонтанного зарождения жизни в лабораторных условиях. Синтетическая биология и эксперименты по созданию протоклеток показывают принципиальную возможность получить из простых компонентов системы с чертами, имитирующими живые организмы. Это подтверждает, что жизнь могла эволюционировать из молекулярного химического хаоса. Собственно, именно об этом – эксперименты группы Хуана Переса-Меркадера.
Во всем этом есть только одна заминка – необъяснимая хиральность биомолекул.

|
|
В эксперименте профессора Гарварда Хуана Перес-Меркадера (слева) смесь неорганических простых углеродных соединений в колбе подвергали воздействию зеленых светодиодов, обмотанных вокруг колбы. Фото с сайта news.harvard.edu |
В этом месте наших рассуждений необходимо сделать одно тонкое замечание: «спонтанно» и «случайно», хотя и очень похожие термины, но это не тождественные понятия.
Давайте представим, что нам удалось уравновесить в вертикальном положении карандаш на тонко заточенном кончике. Муха пролетит рядом – карандаш упадет. В чем причина падения карандаша: в том, что муха пролетела или что карандаш стоит неустойчиво? Очевидно – второе. Так вот, в данном случае слово «спонтанно» относится к мухе. Это, так сказать, повод. Причина же падения в том, что положение карандаша неустойчиво. Причина спонтанного нарушения симметрии – в неустойчивости симметричного состояния. А это уже имеет отношение к динамике, которая такую неустойчивость создает.
Академик Виталий Гольданский, например, так говорил о проводимых им и его коллегами исследованиях: «Нас интересует проблема того, как в мире, где уже возникли простейшие органические молекулы, как в таком мире могли возникнуть простейшие биологические структуры. В наших подходах мы пытаемся построить неразрывную эволюционную связь между таким структурным свойством биологических молекул, как гомохиральность, и их ключевым функциональным свойством, а именно – способность к самовоспроизведению, к саморепликации. Мы пытаемся использовать чисто физическое свойство хиральной чистоты как ключ к тому, чтобы дать ответ на вопрос о том, как возникло свойство функциональное – саморепликация».
Профессор Владик Аветисов приводит такое сравнение: «Если и существует какая-то аналогия, то это, несомненно, аналогия с космологической теорией Большого взрыва, Big Bang. Во-первых, и тут и там имеешь дело с загадочной проблемой возникновения и эволюции сложного и разнообразного мира. В одном случае – это вся Вселенная, а в другом – это вся Жизнь. Во всяком случае, то, что мы воспринимаем как живое. Во-вторых, и это самое важное, и тут и там идея спонтанного нарушения симметрии является ключевой».
Заметим, что аналогия с физическим Большим взрывом появилась в работах Виталия Гольданского и Леонида Морозова еще в 1984 году. В них и предложен термин: Biological Big Bang – биологический Большой взрыв.
«Одно из важнейших свойств механизма спонтанного нарушения симметрии состоит в том, что вероятность нарушения симметрии, так сказать, «вправо» или «влево» практически одинаково, – отмечал академик Гольданский. – Это прямое следствие симметрии электромагнитного взаимодействия. Поэтому биологический Большой взрыв с равной вероятностью мог привести к появлению как нашей, «левой» биосферы, так и ее зеркального антипода – «правой» биосферы. Если бы такой выбор был абсолютно симметричен, то частота появления «правой» и «левой» форм жизни во Вселенной была бы одинакова. Но в нашей Вселенной зеркальная симметрия слегка нарушена из-за слабых взаимодействий. Достаточно ли этого для практически полного подавления одной из форм жизни?»
Как бы там ни было, нам неизвестна иная форма жизни, кроме Земной. А ведь было бы любопытно понаблюдать, как могли бы – и могли ли в принципе? – сосуществовать две хирально чистые биосферы на одной планете. Такая же, как сейчас органическая жизнь, как на Земле, но построенная из «правых» аминокислот и «левых» сахаров.
Кто заплатит космологический долг
Этот переход от лабораторной колбы – к планетной биосфере и от нее – к нарушению симметрии в космологических масштабах, конечно, сам по себе заслуживает философской рефлексии. Анфан терибль советской философии Эвальд Ильенков в своем эссе «Космология духа» (1956) совершенно диалектически, подстраховываясь высказываниями из классиков марксизма, обозначил перспективу вида Homo sapiens: «Ясно, что где-то во мраке грядущего человечество прекратит свое существование и что вечный поток движения Вселенной в конце концов смоет и сотрет все следы человеческой культуры. Сама Земля будет когда-нибудь развеяна в пыль космических пространств, растворится в вечном крутовороте мировой материи...»
И каков же выход для мыслящей материи? Можно ли вообще говорить о каком-то выходе ввиду обозначенной конечной точки цивилизационного маршрута этой самой мыслящей материи – тепловой смерти? Ильенков предельно радикален в ответе на этот вопрос. Он вводит понятие «космологический долг».
«Реально это можно представить себе так – в какой-то очень высокой точке своего развития мыслящие существа, исполняя свой космологический долг и жертвуя собой, производят сознательно космическую катастрофу вызывая процесс, обратный «тепловому умиранию» космической материи, то есть вызывая процесс, ведущий к возрождению умирающих миров в виде космического облака раскаленного газа и пара», – пишет Эвальд Ильенков.
Что произойдет дальше – см. у того же Эразма Дарвина:
Произвело Отталкивание
взрыв,
Часть в жидкость, часть же
в газ преобразив…
Живого праха первые комочки;
Растений мир и насекомых
рой
Возстал микроскопической
толпой,
Стал двигаться, дышать
и множить почки.
То есть рацемат, нарушение хиральной нейтральности, спонтанное появление биомакромолекул… В общем, как заявляет Ильенков, «она с необходимостью, заложенной в ее природе, постоянно рождает мыслящие существа, постоянно производит то там, то здесь орган мышления – мыслящий мозг».
Этот мотив, кстати, отрефлексирован не только в философии, но и в литературе. Так, у американского писателя-фантаста, футуролога и литературоведа Брюса Стерлинга в его знаменитом киберпанковском романе «Схизматрица» (англ. «Schismatrix», 1985) один из загадочных персонажей, который за неимением более точного определения, назван просто – присутствие (я бы идентифицировал это как пакет электромагнитных волн. – В.А.), на вопрос, чего он хочет, прямо отвечает: «Того, что у меня есть! Вечности, полной чудес. И даже не вечности, а неопределенной длительности, в ней-то и самый кайф. Подожду тепловой смерти Вселенной и погляжу, что будет потом! А все, что произойдет тем временем, – это уже кое-что!»
Но до этого еще далеко. По некоторым модельным оценкам, тепловая смерть Вселенной нас (?) ждет через 100 трлн лет (1014). Именно тогда звезды начнут умирать массово – большинство из них истощит свои запасы водорода для протекания термоядерной реакции, и начнется эра великой дегенерации. Самое время для земного человечества, Homo sapiens, исполнить свой «космологический долг» – и вновь взорвать (разогреть, раскачать) Вселенную…
Увы, к тому моменту скорее всего разумная материя на Земле приобретет какие-то другие формы, например мыслящей слизи. Британский палеонтолог Дугал Диксон, автор бестселлера «После человека. Зоология будущего» (англ. After Man: A Zoology of the Future, 1981) уверен: «Жизнь на Земле будет продолжаться столько же, сколько будет существовать сама Земля, и это, возможно, растянется на следующие 5000 млн лет. Как жизнь станет эволюционировать на протяжении этого периода, узнать невозможно, но в одном можно быть уверенными: животные и растения не останутся такими, какие они есть.
Как заметил известный отечественный биофизик Лев Блюменфельд, «живая материя – самый интересный предмет исследования для живой материи, способной к исследованию».