 Корреспонденты газеты «Гудок» при жизни всегда были в центре внимания, а теперь их мемуары – основа для постановки в театре. Фото пресс-службы театра «МОСТ»
Корреспонденты газеты «Гудок» при жизни всегда были в центре внимания, а теперь их мемуары – основа для постановки в театре. Фото пресс-службы театра «МОСТ»
Студенческий театр при Московском университете (теперь театр МОСТ – Московский Открытый Студенческий театр) родился в 1756 году вместе с университетом. Первый спектакль был сыгран студентами, актерами-любителями к первой годовщине его открытия. Когда-то там ставили Александра Сумарокова и Михаила Ломоносова, и именно на основе Студенческого театра МГУ возник Московский Императорский, а ныне Большой и Малый театры. Некогда в театре играли Ия Саввина и Алла Демидова, а главным режиссером был Ролан Быков. Здесь ставили спектакли Марк Захаров и Роман Виктюк. С 1981 года бессменный худрук театра МГУ Евгений Славутин. В этом году театр МОСТ отмечает свое 25-летие. Юбилей отметили двумя премьерами – «Дни Турбиных» (реж. Георгий Долмазаян) и «Гудок» (реж. Евгений Славутин). Главные герои «Гудка» – писатели Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров, Юрий Олеша, Эдуард Багрицкий и Михаил Булгаков (см. «НГ-EL» от 21.05.25). О том, как режиссер может стать писателем, о литературной первооснове спектаклей, привычке чтения с ЕВГЕНИЕМ СЛАВУТИНЫМ беседует ЕЛЕНА ЛОГИНОВА.
– Евгений Иосифович, как вы работаете с литературной первоосновой? Как книги становятся спектаклями, ведь это, как говорят в Одессе, «две большие разницы»?
– Это очень «большие разницы». Главная загвоздка в том, что книга-роман, повесть, рассказы, стихи тем более не являются драматическими произведениями. В них красота слова, потрясающие мысли и атмосфера, но это не пьесы. В драматическом произведении что главное? Cитуации и действие, действие, действие. А в книге, даже очень хорошей, часто ни того, ни другого. И вместе с тем – цепляет и хочется это поставить.
– И как выходите из положения?
– А я беру – и сам все дописываю и переписываю. Потом мои ребята-актеры выносят все это на публику, и публика восхищается: «Надо же, как классно писал Катаев!» А это не только Катаев. Это Катаев плюс я, плюс все мы. Иногда я меняю и время действия. Например, рассказы Зощенко про Миньку и Лельку. Там дело происходит до революции в интеллигентной семье, множество примет и атмосфера так называемого буржуазного быта: няня, резной буфет красного дерева… Мне показались вполне жизнеспособными главные герои с их немудреными детскими радостями и горестями, но, если бы я бережно отнесся к первоисточнику – тексту Зощенко, его «Минька и Лелька» на сцене бы не состоялись. Это современному зрителю бы «не зашло». Но я перенес время действия в 30-е годы прошлого века – и все встало на свои места, все получилось. Сегодняшний зритель эту историю принял и полюбил.
– То есть вы не только режиссер, но еще и писатель?
– Получается, что так. Но это и не так (смеется). Задача режиссера – отрежессировать литературное произведение. То есть увидеть, как все это оживет на сцене, задвигается, задышит, начнет действовать, что я и делаю.
– А бывает так, что средняя книга становится хорошим спектаклем?
– Сплошь и рядом. Взять хотя бы Юлию Друнину. Какой она поэт? Но это война глазами человека, который был на ней, – и этим все сказано. Это искренне и из самой сердцевины души. Или Эдуард Асадов. У него поразительная судьба, я перед ним преклоняюсь как перед человеком, но опять же он – не поэт вообще. И вместе с тем, когда его читаешь, зримо видишь все то, о чем он говорит рифмами, пусть и абсолютно беспомощными. И он всегда рассказывает какую-то конкретную историю, в его стихах присутствует драматургия. И еще Шефнер. На мой взгляд, тоже поэт весьма средний. И тем не менее его повесть «Счастливый неудачник» просто потрясающая. Я поставил по ней спектакль в 80-е, и до сих пор на него зрители валом валят.
– У вас есть какой-то «фирменный» прием, который обеспечивает вашим спектаклям такой успех?
– Пожалуй, есть. В спектакле главное – для кого ты его ставишь. Не для чего, а для кого. Человек – это самое главное для другого человека. Его мы хотим поразить, порадовать, завоевать и так далее. И книги интересны нам тем, что их написали люди – написали о себе, но это порой так совпадает с тем, что мы сами чувствуем и пережили, что хочется воскликнуть: «Это про меня!» Того же «Счастливого неудачника» я ставил для своего отца, про свой московский послевоенный дворик, хотя в книге действие происходит в Ленинграде до войны.
– То есть совершенно необязательно быть гениальным писателем, чтобы тебя поставили?
– Однозначно. Театр имеет свои законы, и с законами литературы они практически не совпадают.
– Ваш театр знаменит не только тем, что был открыт в XVIII веке и до сих пор живет и здравствует, но и тем, что играют в нем не профессионалы, а студенты московских вузов, причем не театральных, а самых разных. И играют так, что в зале действительно «яблоку негде упасть». Как вам это удается?
– У нас при театре учебная студия. Там я много всякого даю в плане обучения, в частности прием, который применял великий русский актер Михаил Щепкин.
– Что же это за прием?
– Что-то вроде оживления литературных персонажей. Играть не просто Джульетту, Дездемону, Настасью Филипповну, Роксану, Сирано и так далее. А играть конкретных Дездемону, Роксану, Сирано. Для этого надо взять из собственной жизни любого человека, хорошо знакомого – подругу, родственника, преподавателя, соседа, – и дать их черты, походку, манеру говорить, смеяться, сердиться своему персонажу. Действует потрясающе.
Или вот еще. Я предлагаю прочитать знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь», но читать через собственную душу, через конкретную человеческую историю. Я говорю ребятам: представьте себе, что вы читаете письма вашего деда, который с войны не вернулся. Это его письмо бабушке – жди меня, и я вернусь. Но вы-то знаете, что он не вернулся… Они так читают после этого – слезы наворачиваются.
– Принято считать, что современная молодежь книгами не интересуется – их давно, прочно и надежно вытеснил интернет. Что вы об этом думаете?
– Думаю, что молодежь молодежи рознь. Честно говоря, я никогда не спрашивал у своих ребят, что они сейчас читают и т.д. Но есть у меня в моей учебной практике интересное упражнение. Одному студенту или группе даю задание изобразить каких-нибудь литературных персонажей (слова использовать нельзя). А остальные должны угадать, что это за персонажи – какой век, автор, произведение. Практически в ста случаях из ста они угадывают правильно – и Федора Достоевского, и Михаила Шолохова, и Льва Толстого… Соответственно они этих авторов читали.

|
|
Документальная фантасмагория «ГУДОК!» – история о таланте, энергии, смелости и легкомысленности, свойственным юности. Фото пресс-службы театра «МОСТ» |
– Да, героев там пятеро – Валентин Катаев, Юрий Олеша, Илья Ильф, Евгений Петров и Эдуард Багрицкий. И задействован еще Михаил Булгаков. Мои Катаев, Олеша, Ильф-Петров и Багрицкий – пятеро молодых одесситов, которые по традиции отправились покорять Москву и волею Судьбы оказались корреспондентами газеты «Гудок». Они туда пишут какие-то незначительные заметки ради гонорара и пропитания, шутят шутки, устраивают приколы и розыгрыши на каждом шагу. И одновременно создают с нуля новую советскую литературу. Я старался сделать их максимально живыми людьми, ни в коем случае не бронзовыми памятниками самим себе. Да они таковыми и были – совсем молодые еще люди, не осознающие в полной мере ни своей роли в истории, ни своего колоссального таланта. Наш молодой зритель отождествляет себя с ними без особого труда, собственно, все молодые так или иначе в чем-то похожи…
– Я сама слышала, как после спектакля мальчик лет двенадцати спросил у мамы: «А что они написали?» И мама ответила: «Вот придем домой, скачаем их произведения и будем читать».
– Это прямой и закономерный результат того, что герои живут на сцене самую обычную человеческую жизнь, они самые обычные молодые люди со всеми радостями и горестями, присущими юности, с той лишь разницей, что зовут их Катаев, Олеша, Багрицкий и Ильф, и Петров. И с той разницей, что мы, жители XXI века, знаем, чем они явились для нашей литературы, как повлияли на ее зарождение и весь ее ход.
– Какая литературная первооснова у спектакля?
– Литературные мемуары этих писателей. Материала было так много, что я поначалу испытал перед ним большую растерянность. Но я уже говорил, что задача драматургического произведения, которое пойдет на сцене, – рассказать какую-то конкретную главную историю, провести одну четкую смысловую и событийную линию, чтобы зритель не путался и у него не рассеивалось внимание. А мыслей, событий, чувств и персонажей в литературных мемуарах обычно так много, что глаза разбегаются и не знаешь, за что хвататься… Потом действуешь, как скульптор, – берешь мрамор и отсекаешь все лишнее. Но и многое от себя прибавляешь.
– Но ведь окупается?
– Если ребенок после спектакля захотел писателей читать… Это главный результат и подлинный успех. Больше ничего и не надо…

























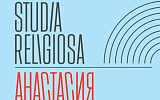

комментарии(0)