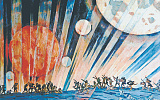Закон всемирного тяготения действительно нагляден, и он очень образный: знаменитое яблоко, упавшее на голову Ньютона (или рядом с ним, когда он сидел в саду; или попало ему в колено – версии этой баснословной истории разнятся). Художник Игорь Ролдугин, «Каждое яблоко мечтает помочь Ньютону», 2010–2015. Частная коллекция
Закон всемирного тяготения действительно нагляден, и он очень образный: знаменитое яблоко, упавшее на голову Ньютона (или рядом с ним, когда он сидел в саду; или попало ему в колено – версии этой баснословной истории разнятся). Художник Игорь Ролдугин, «Каждое яблоко мечтает помочь Ньютону», 2010–2015. Частная коллекция
Мир чувств не раб законов тяготенья…
Константин Случевский. В лаборатории. 1881
13 октября 1745 года, в три часа пополудни, умер Джонатан Свифт, человек, который, по словам Борхеса, «задался целью осудить человеческий род и оставил после себя книгу для детского чтения». Понятно, о какой книге речь – «Путешествия Гулливера».
Итальянский антрополог Чезаре Ламброзо в своем психиатрическом бестселлере «Гениальность и помешательство» (1882) посвящает личности Свифта несколько строк: «…Свифт умер в полном расстройстве умственных способностей. После него осталось написанное задолго перед этим завещание, в котором он отказал 11 000 фунтов стерлингов в пользу душевнобольных».
Случай в Глаббдробдриб
Между тем «Путешествия Гулливера» – роман на все времена. Нас в данном случае интересует то, как в романе оценивается Лондонское королевское общество (одно из старейших в мире научных обществ, создано в 1660 году, взято под эгиду короля в 1662 году) и его председатель – сэр Исаак Ньютон. Еще немного сузим тему – как Свифт интерпретирует закон всемирного тяготения, опубликованный Ньютоном в 1687 году в его беспрецедентном труде «Математические начала натуральной философии» (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica).
Судьба любит плести чрезвычайно изощренные кружева. Заметим, что первое издание романа «Путешествия Гулливера» вышло в октябре 1726 года, то есть именно в тот год, что и последнее прижизненное издание «Математических начал натуральной философии» Ньютона, в котором и сформулированы законы движения и закон всемирного тяготения. Собственно, во многих своих страницах это – желчная пародия на Лондонское королевское общество, которое с 1703 года и до самой смерти в 1727 году возглавлял Исаак Ньютон.
«Здравый смысл», к которому апеллирует Свифт, пытаясь подтрунивать над строгой геометрической логикой Ньютона, – вещь отнюдь не очевидная и тем более не объективная a priory.
В одном из своих путешествий, в Лапуту, Гулливер попадает на островок Глаббдробдриб, правитель которого «благодаря хорошему знанию некромантии обладает силой вызывать по своему желанию мертвых и заставлять их служить себе в течение двадцати четырех часов, но не дольше…». (Все цитаты даются по изданию: Свифт, Джонатан. Путешествия Гулливера / Пер. с англ. под ред. А. Франковского. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1947. 562 с.)
Гулливер, естественно, в полной мере воспользовался этим обстоятельством. В том числе и для того, чтобы поспорить и уязвить Ньютона.
«…Я попросил правителя вызвать Декарта и Гассенди, которым предложил изложить Аристотелю их системы. Этот великий философ откровенно признал свои ошибки в естественной философии, потому что во многих случаях его рассуждения были основаны на догадках, как это приходится делать всем людям; и он высказал предположение, что Гассенди, разработавший в современном вкусе учение Эпикура, и Декарт с его теорией вихрей будут одинаково отвергнуты потомством. Он предсказал ту же участь теории тяготения, которую с таким рвением отстаивают современные ученые. При этом он заметил, что новые системы природы, подобно новой моде, меняются с каждым поколением и что даже тот, кто пытается доказать их математическим методом, успевает в этом не надолго и выходит из моды, когда наступают назначенные судьбой сроки».
Свифт подчеркивает изменчивость научной «моды»: учение об атомах и пустоте Эпикура сменяется теорией вихрей Декарта, которая, в свою очередь, замещается теорией тяготения Ньютона. Последняя, по мнению Свифта, тоже недолговечна.
Вот, кстати, как итальянский медиевист Умберто Эко в своем романе «Остров накануне» (СПб., 2006) растолковывает декартовскую космологию: «Гипотезируя материальное пространство, составленное из атомов, мы приходим к выводу, что атомов вовсе нет. Что же есть? Воронки. Притом не то чтобы воронки вертели солнцем и планетами, полной материей, сопротивляющейся их вихрю. Нет, солнце и планеты сами являются воронками, вращающими в себе более мелкие вихри. Крупнейший вихрь, который вихрит галактики, содержит в середине другие воронки. Те являются вихрями вихрей, пучинами пучин. Бездна великой пучины пучин пучин низвергается в бесконечность и опирается на Ничто».
В этом же романе находим описание принципа эпикуровской Вселенной: «Вот именно за счет таких корпускулов наблюдаются феномены притяжения, которые многими именуются действиями на далеке, на самом же деле они вовсе не на далеке и, следственно, они не колдовство, а только результат постоянного обмена атомов».
Но если толкотня эпикуровских атомов и декартовские вихри хоть как-то объясняли механизм тяготения, то Ньютон принципиально отказывался обсуждать природу гравитации. Даже гипотетически. В переписке 1692–1693 годов с эллинистом и теологом Ричардом Бентли Ньютон настаивает: «Иногда Вы говорите о притяжении как о главном и неотъемлемом качестве материи. Я прошу Вас не приписывать мне это понятие, так как я не претендую на знание причины притяжения и мне потребуется еще время, чтобы об этом подумать» (Все цитаты из Ньютона даются по изданию: Собрание тр. акад. А.Н. Крылова, т. VII, Ис. Ньютон. Математические начала натуральной философии / Пер. с лат. с прим. и поясн. А.Н. Крылова. Изд-во АН СССР, М.; Л., 1936. 696 с.).
Apropo. Обширный ньютоновский эпистолярий был совершенно органичен для своего времени. «Пожалуй, ни в одном другом жанре научной литературы XVII века оценочные возможности слова не использовались столь широко, как в письмах, и хотя материал писем еще не дает возможности говорить о четкой языковой поляризации средств интеллектуально-логической и эмоциональной оценки, он все же должен быть принят во внимание как своеобразный аккумулятор оценочной лексики в научной литературе XVII века, – отмечает советский лингвист Нина Разинкина. – Характерным для всех писем было наличие четко оформленных синтаксических связей. В период, когда далеко не все жанры научной литературы представляли собой образцы синтаксически упорядоченной прозы, наличие писем с типичным для них стремлением к четким синтаксическим построениям сыграло немалую роль в становлении стиля английской научной прозы» (Разинкина Н.М. Развитие языка английской научной литературы. Лингвостилистическое исследование – М.: Наука, 1978. С. 81).
«Гипотез не измышляю»
Можно заметить, что по-настоящему крупные, глубокие научные концепции часто выполняют роль… триггера психологических эпидемий в обществе. «Опровергатели» и «улучшатели» появляются сразу после Ферма, Ньютона, Дарвина, Менделеева, Эйнштейна, Хокинга... И это объяснимо. «Естествознание не претендует быть готовым мировоззрением, но оно выступает с сознанием, что работает над созданием мировоззрения в будущем, – отмечал австрийский физик и философ-позитивист Эрнст Мах в своем труде «Механика. Историко-критический очерк ея развития» (СПб., 1909). – Высшая философия естествознания именно в том и заключается, чтобы вынести незавершенное мировоззрение и предпочесть его мировоззрению, с виду завершенному, но недостаточному».
И случай с законом всемирного тяготения Исаака Ньютона – хрестоматийный пример в этом смысле для историка науки. И вот почему.
«Долгое время оставался еще один открытый вопрос в системе воззрений Ньютона: как может совершаться взаимодействие тел через пустоту. Передача силового воздействия от тела к телу через пустоту казалась парадоксальной и автору «Начал», – пишет отечественный историк науки Ирина Тюлина.
Сам Исаак Ньютон, заключая свой magnum opus, откровенно признавал: «До сих пор я изъяснял небесные явления и приливы наших морей на основании силы тяготения, но я не указывал причины самого тяготения. Причину же этих свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю. Довольно того, что тяготение на самом деле существует и действует согласно изложенным нами законам, и вполне достаточно для объяснения всех движений небесных тел и моря».
И это при том, что формулировка закона всемирного тяготения, предложенная самим Ньютоном, проста и очевидна: «…надо утверждать, что все тела тяготеют друг к другу. Тяготение, направляющееся к любой из планет, обратно пропорционально квадратам расстояний мест до центра ее. Тяготение существует ко всем телам вообще и пропорционально массе каждого из них».
Лейбниц, Гюйгенс, Режи, Клеро, Эйлер, Фонтенель, Кассини, Бернулли, Ломоносов, Вольф… – самые авторитетные фигуры европейской науки были среди оппонентов Ньютона! И это только список имен (далеко не полный) ученых из первого ряда… Вот и один из героев романа Грегори Киза «Пушка Ньютона» эмоционально восклицает: «Послушайте… сэр Исаак показал нам мир порядка и поэзию гармонии. Из мистицизма Лейбница он извлек свет, суть истины и математическую точность. И это он превратил в систему знаний; на этой основе он построил свои представления о мироздании. Вы что, действительно считаете, что интерес Ньютона к истории и мудрости древних сродни нелепой идее Лейбница, будто мы живем в самом совершенном из миров?» (СПб., 2004).
Итальянец Умберто Эко в романе «Имя розы» в уста средневекового монаха-следователя Вильгельма Баскервильского явно вкладывает апологетику ньютоновского метода умозаключений: «Разгадывать тайну – это не то же самое, что дедуцировать из первооснований (похоже, троллинг средневековой схоластики. – А.В.). Это также не все равно что собирать множество частных данных и выводить из них универсальные законы. Разгадывать тайну чаще всего означает иметь в своем распоряжении не более одного, или двух, или трех частных данных, не обладающих с внешней точки зрения никаким сходством, и пытаться вообразить, не могут ли все эти случаи представлять собой проявления некоего универсального закона, который лично тебе пока неизвестен и вообще неизвестно, был ли он когда-либо выведен» (СПб., 1999).
Именно тайну Исаак Ньютон и пытался разгадать. И отчасти это ему удалось: открыл закон всемирного тяготения. Но вот природа тяготения…

|
|
Исаак Ньютон принципиально отказывался обсуждать природу гравитации. Даже гипотетически. Памятная марка, посвященная 300-летию выхода в свет «Начал натуральной философии». Почта Англии, 1987. |
Окончательно закон всемирного тяготения был принят континентальным научным сообществом в 1759 году, когда вновь наблюдалась комета Галлея. Параметры ее орбиты и время появления были точно рассчитаны Клэро на основе теории Ньютона. «…Работа Клэро – вычисление времени возвращения кометы Галлея, – законченная 13 апреля 1759 года и менее чем через месяц оправдавшаяся наблюдениями, доставила ему огромную популярность. Клэро, если можно так выразиться, показал всем, с какой уверенностью могут быть предсказаны на основе теорий Ньютона такие явления, предсказания которых вообще считались немыслимыми», – отмечал французский математик и историк математики XIX века Поль Таннери в работе «Исторический очерк развития естествознания в Европе (с 1300 по 1900 г.)» (М., Л., 1934).
Кстати, о траекториях комет есть такие поэтические строчки анонимного автора:
…Пленница небес,
комета Эдмунда Галлея,
конечно же, вернется, без-
условно массы тяготеют…
От первой «пандемии» антиньютонианства к концу XVIII века, казалось, ученые благополучно избавились. 11 декабря 1750 года французский философ, экономист, государственный деятель Анн Роберт Жак Тюрго в своей Сорбоннской речи с понятным пафосом заявлял: «Наконец, все тучи рассеяны. Какой яркий свет загорелся со всех сторон! Какая масса великих людей во всех областях! Какое совершенство человеческого разума! Человек (Ньютон) подверг исчислению бесконечное; открыл свойство света, который, освещая все, сам как бы скрывается; привел в равновесие светила, землю и все силы природы. Этот человек встретил соперника. Лейбниц обнимает своим обширным умом все предметы человеческого разума. Различные науки, ограниченные сначала небольшим количеством простых понятий, доступных всем, став благодаря своему прогрессу более обширными и более трудными, могут быть отныне рассматриваемы только отдельно. Но дальнейшие научные успехи сближают их и открывают взаимную зависимость, существующую между всеми истинами, которая, связывая их, освещает одну истину посредством другой».
Можно сказать, что примерно с этого момента закон всемирного тяготения «овладел массами». И конечно, оброс социальной «чешуей» и народной мифологией. Собственно, рефлексия Джонатана Свифта на закон всемирного тяготения в «Путешествиях Гулливера» – одно из первых свидетельств это процесса.
Или такой пример, опять из «Острова накануне»: «Доктор входил все в больший раж. «Да, да, любезнейший, вот вы так чудно философствуете, наукой костоправов брезгуете. Скажу вам даже, раз мы взялись рассуждать о кале, что у кого нечистое дыханье, ему бы подержать разинутый рот над навозною кучей, и он бы излечился. Сточная канава смердит изрядно сильнее, нежели его глотка, а известно, что меньшее количество притягивается большим!»
Хорошее представление о том, какова была реакция общества, «народных масс» – того, что мы сегодня называем средним классом, на все эти научные открытия, противоречащие, казалось бы, здравому смыслу, дает Патрик Зюскинд в своем бестселлере «Парфюмер». Один из персонажей романа, парфюмер Джузеппе Бальдини, с негодованием восклицает: «Будто бы нет больше ничего достоверного и все вдруг изменилось. В стакане воды, дескать, плавают малюсенькие зверушки, которых раньше никто не видел; сифилис теперь вроде бы нормальная болезнь, а не Божия кара; Господь, мол, создал мир не за семь дней, а за миллионы лет, если это вообще был Господь; дикари такие же люди, как мы; детей мы воспитываем неправильно; земля больше не круглая, как была до сих пор, а сплюснутая сверху и снизу, наподобие тыквы, как будто в этом дело! Все кому не лень задают вопросы, и роют, и исследуют, и вынюхивают, и над чем только не экспериментируют. Теперь мало сказать что и как – изволь еще это доказать, представить свидетелей, привести цифры, провести какие-то там смехотворные опыты. Всякие дидро, и даламберы, и вольтеры, и руссо, и прочие писаки, как бы их ни звали, – среди них есть даже духовные особы и благородные господа! своего добились: собственное коварное беспокойство, развратную привычку к неудовлетворенности и недовольству всем на свете, короче, безграничный хаос, царящий в их головах, они умудрились распространить на все общество!»
И дальше – самое интересное для нашей темы: «В салонах болтают исключительно о траекториях комет и экспедициях, о силе рычага и Ньютоне, о строительстве каналов, кровообращении и диаметре земного шара» (нем. 1985, СПб., 2025).
Как бы там ни было, но проблема субстанциональности (природы) силы тяготения стала триггером психологических эпидемий в эпоху Просвещения. Можно сказать – мемом. Она тревожила занозой мозги просвещенной части общества. Впрочем, не только просвещенной. В общем, как отмечает историк и культуролог Инна Лисович, «…благодаря обращению к культурному контексту развития науки можно исследовать существовавшие научные дискурсы и практики раннего Нового времени с позиций их рецепции и интерпретации современниками» («Скальпель разума и крылья воображения. Научные дискурсы в английской культуре раннего Нового времени», М., 2015).
В 1737 году знаток искусства, доверенное лицо короля Пруссии Фридриха Великого, итальянец Франческо Альгаротти издал популярный учебник – «Философия сэра Исаака Ньютона, соответствующая для использования дамами» («Il Newtonianismo per lDame…»). Вот, например, как интерпретировался в нем закон всемирного тяготения: «Я не могу отделаться от мысли, что... то же самое соотношение, обратная кратность квадрату расстояния, наблюдается и в любви. Например, если влюбленные не будут поддерживаться восемь дней, то любовь станет в шестьдесят в четыре раза слабее, чем в день разлуки». Между прочим, не кто иной, как Вольтер, «вскружил голову блистательному и мудрому Альгаротти», замечал французский политик XIX века Поль Ремюза.
Интересно обыгрывает этот сюжет Умберто Эко в «Острове накануне» в диалоге двух главных героев:
«– Животные не любят?
– Нет. Простейшие механизмы любить не могут. Что делают колеса повозки на скате? Крутятся вниз. Машина имеет вес, вес тяготеет книзу, в повиновении слепому закону, который требует опускаться. Таково и животное: оно тяготеет совокупляться. Не остановится, покуда не совокупится, а потом остановится».
Но опять же, какова же природа этого тяготения?! Ответить на этот вопрос оказалось чрезвычайно сложно. Хотя формулировка закона, предложенная самим Ньютоном, повторим, проста и очевидна: «…надо утверждать, что все тела тяготеют друг к другу. Тяготение, направляющееся к любой из планет, обратно пропорционально квадратам расстояний мест до центра ее. Тяготение существует ко всем телам вообще и пропорционально массе каждого из них». Действительно, такой ясный в своей формулировке закон, для обыденного сознания должен непременно иметь и простое истолкование. Однако профессор Иэн Стюарт в книге лишает читателя этой надежды.
«Исаак Ньютон, разработав законы механики и всемирного тяготения, которые описывают движение планет, не избавился разом от всех проблем в понимании устройства Солнечной системы. Наоборот, после этого перед математиками встал ряд новых вопросов: да, конечно, мы знаем законы, но что они подразумевают? – пишет британский математик, профессор Университета Уорвика Иэн Стюарт в книге «Величайшие математические задачи» (М., 2022). – В поисках ответов Ньютон придумал дифференциальное (интегральное) исчисление, но и у нового метода обнаружились ограничения. Зачастую он вместо ответа на вопрос просто дает иную его формулировку. Так, с его помощью некоторые задачи можно легко записать в виде специальной формулы, известной как дифференциальное уравнение. Решение этого уравнения и есть искомый ответ. Но это решение еще надо найти. Тем не менее дифференциальное исчисление послужило мощным стартом. Оно показало, что ответ в принципе возможен, и снабдило ученых эффективным методом его поиска. До сих пор, хотя прошло уже больше 300 лет, этот метод помогает математикам совершать крупные открытия».
При этом закон всемирного тяготения действительно нагляден – и он очень образный: знаменитое яблоко, упавшее на голову Ньютона (или рядом с ним, когда он сидел в саду; или попавшее ему в колено – версии этой баснословной истории разнятся). Современные теоретики рекламы сказали бы, что это был гениальный PR-ход. Ведь с точки зрения массовой культуры Ньютону удалось сделать главное – найти образ, который стал наглядным, а потому и запоминающимся, визуальным символом новой загадочной силы – гравитации. Этот образ и материализовался в падающем яблоке. «Сорвавшийся с дерева плод, раскровянив ему нос, обучит в единочасье и законам тяготения тел, и правилам de motu cordis et sanguinis in animalibus » (Умберто Эко, «Остров накануне»).
О всеповелевающем феномене гравитации пишет Гёте в трагедии «Фауст»:
В пространстве движется
планета
С неудержимой быстротой,
И райское сиянье света
В ладу с ночною темнотой.
Когда-нибудь взыграют
шквалы
Могучим натиском волны
И вместе с морем будут
скалы
Вращеньем сфер унесены.
Яблоко Ньютона визуализировало тяготение. А это значило, кроме всего прочего, что должно было начаться и народное и литературное «гравитационное» творчество. Оно и началось. И благополучно продолжается.

|
|
«Это как футбол, только вселенского масштаба, где три звезды – игроки, а наша планета – мяч». Иллюстрация создана с помощью нейросети Kandinskiy 4.1 |
У Владимира Набокова в «Аде» есть такой эпизод: «…после того был еще случай, в клинике, когда он умиротворял одного спятившего фокусника, помешавшегося на идее некой связи земного притяжения с кровообращением Вседержителя».
Пространство – это чувствилище Бога, считал Ньютон. Владимир Набоков в романе блестяще обыгрывает эту метафору-гипотезу. Он создает буквально тактильный образ, объясняющий мгновенное и всепроникающее действие гравитации (ставит мысленный эксперимент): «Я знаю, что релятивисты, оболваненные своими «световыми сигналами» и «путешествующими часами», пытаются ниспровергнуть идею одновременности на космической шкале, но давайте представим себе гигантскую ладонь, большой палец которой касается одной планеты, а мизинец – другой. Неужели она не будет касаться обеих планет одновременно, или тактильные совпадения еще более обманчивы, чем визуальные?» (М., 2022).
Набоков – любитель и мастер на такие мысленные эксперименты. Вот еще один, касающийся нашей темы: «В человеческом сознании идея умирания синонимична идее расставания с Землей. Преодолеть гравитацию – значит избежать могилы, но астронавт, очнувшись на другой планете, не имеет возможности убедить себя, что он не умер… не сбылся наивный старый миф» (рассказ «Ланс», 1951).
Между тем профессор истории и философии науки Сиднейского университета Офер Галл отмечает, что «Ньютонианская математизация природы возникла на фоне сомнений в ее (природы. – А.В.) определенности и совершенстве, поскольку ее нельзя было представить посредством математического знания, на которое ссылались платоники. Но Ньютон и его последователи открыли простые, совершенные законы, лежащие в основе всех, казалось бы, «непослушных» явлений, окрасивших мироощущение барокко в трагические тона» (цит. по: Инна Лисович, «Скальпель разума...»).
Загадка природы гравитации не оставляет и современных мастеров пера. В романе Александра Иличевского «Чертеж Ньютона» (М., 2020) главный герой очень аккуратно, корректно сообщает: «Я занимаюсь проблемой темной материи и много езжу по миру, принимаю участие в работе различных научных сообществ, которые монтируют свои установки в горах, поближе к космосу. В то же время некоторые считают, что темной материи не существует, что все ее признаки, в том числе и загадочное поведение галактик, – это следствие того, что закон всемирного тяготения Ньютона на больших расстояниях следует видоизменить. Иными словами, закон тяготения не такой уж и всемирный».
Профессор Иэн Стюарт еще больше усложняет задачу. «Если верить старой шутке, то о продвинутости физической теории можно судить по тому, с каким количеством взаимодействующих тел она не в состоянии разобраться. Закон всемирного тяготения Ньютона сталкивается с проблемами уже на трех телах. Общая теория относительности с трудом справляется с двумя. Квантовая теория и для одного-то тела непомерно сложна, а квантовая теория поля попадает в беду даже там, где тел нет вообще в вакууме. Так, над задачей гравитационного взаимодействия всего лишь трех тел, которые вроде бы подчиняются ньютонову обратноквадратичному закону тяготения, математический мир бился не одну сотню лет. И до сих пор бьется, если говорить о красивой формуле для орбит этих тел. Правда, сегодня мы знаем, что динамика трех тел хаотична, настолько нерегулярна, что несет в себе элементы случайности.
Все это выглядит достаточно странно на фоне поразительного успеха гравитационной теории Ньютона, которая объяснила, помимо всего прочего, движение планет вокруг Солнца». Очевидный следующий шаг заключается в том, чтобы записать уравнение для орбит трех тел и решить его. Но у этих орбит нет точных геометрических характеристик, нет даже формулы в геометрических координатах. До конца XIX века о движении трех небесных тел было известно очень немного, даже в том случае, если одно из них настолько мало, что его массой можно пренебречь».
Естественно, что хаотическая сложность задачи трех тел не могла не найти отражения и в художественной литературе. Современный китайский автор Лю Цысин первую книгу своей трилогии «Воспоминания о прошлом Земли» так и назвал – «Задача трех тел» (2006, М., 2025). Планета Трисолярис находится в системе тройной звезды Альфа Центавра. Отсюда все ее проблемы. Хотя…
«Фактически все очень просто. Причина видимого хаотического поведения солнца заключается в том, что у нашего мира их целых три! Под влиянием постоянно меняющегося взаимного тяготения движение трех звезд становится непредсказуемым. Это так называемая задача трех тел. Когда наша планета вращается вокруг только одной звезды по стабильной орбите, наступает Эра Порядка. Когда вторая или обе оставшихся звезды приближаются на определенное расстояние, их притяжение срывает планету с орбиты, в результате чего она начинает метаться в гравитационных полях всех трех солнц. Наступает Эра Хаоса. Это как футбол, только вселенского масштаба, где три звезды – игроки, а наша планета – мяч».
Добавим немного математической фактуры в беллетристику. В середине XIX века французский астроном и математик Шарль-Эжен Делоне попробовал решить задачу трех тел для системы Солнце – Земля – Луна. У него даже получилось вывести приближенные формулы в виде бесконечных очень слабо сходящихся рядов. То есть для вычислительных целей эти формулы непригодны. (Может быть, в будущем квантовый компьютер осилит?) А Делоне опубликовал свои результаты в виде двух томов по 900 страниц в каждом. Испещренных формулами. Уже в конце XX века расчеты проверили с помощью компьютеров: в них обнаружились всего две незначащие ошибки…
Кстати, известный английский астрофизик, первым экспериментально подтвердивший общую теорию относительности Эйнштейна, Артур Эддингтон в 1935 году в письме своему коллеге замечал: «Основная причина, по которой математик победил своих соперников, заключается в том, что мы позволили ему диктовать условия конкурса. Судьба каждой теории Вселенной решается математическим подсчетом. Правильная ли вышла сумма? Я не уверен, что математик понимает наш мир лучше, чем поэт и мистик. Возможно, дело только в том, что он лучше считает»…
Гравитация не пускает и не отпускает. Но только не ученых и звездолетчиков коммунистического будущего Земли, как в романе Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» (М., 1958).
Физик Ива Джан докладывает результаты своих исследований: «Давно уже появились проекты перекачки морей в материковые впадины, чтобы нарушить установившееся равновесие и изменить положение земного шара относительно своей оси. Это было во времена, когда астрономы основывались лишь на элементарной механике тяготения, совершенно не принимая во внимание электромагнитного равновесия системы, гораздо более изменчивого, чем гравитация. Нам следует подойти к решению вопроса именно с этой стороны, что окажется значительно проще, дешевле и скорее. Вспомним, как в начале звездоплавания создание искусственного тяготения требовало такого расхода энергии, что было практически невозможным. Теперь, после открытия разложения мезонных сил, наши корабли снабжены простыми и надежными аппаратами искусственной гравитации».
Как будто парафраз этой же темы – антигравитация – можно найти в романе-сказке Николая Носова «Незнайка на Луне» (цит. по изд.: М., 1991). Главный ученый среди коротышек, Знайка, опытным путем открыл принципы антигравитации. «Как видим... – сказал Знайка, словно читал лекцию невидимым слушателям. – Как видим, состояние невесомости появляется, когда лунный камень (речь – об осколке метеорита, угодившего в город коротышек. – А.В.) и магнитный железняк находятся на определенном расстоянии. Это расстояние можно назвать критическим. Как только расстояние между обоими минералами станет больше критического, невесомость исчезнет и на нас снова будет действовать сила тяжести. Вот он, прибор невесомости! Теперь невесомость у нас в руках, и мы будем повелевать ею!».
Согласимся, это звучит не менее убедительно, чем выступление физика Ивы Джан.
Вот и еще один коротышка, поэт Цветик, подытожил:
И все доступно уж, эхма!
Теперь для нашего ума!