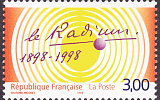Академик АН СССР Г.Н. Флеров, лауреат Нобелевской премии, профессор Г. Чоппин (США), доктор химических наук, профессор Б.Ф. Мясоедов. Дубна. Середина 70-х годов. Фото из архива Б.Ф. Мясоедова
Академик АН СССР Г.Н. Флеров, лауреат Нобелевской премии, профессор Г. Чоппин (США), доктор химических наук, профессор Б.Ф. Мясоедов. Дубна. Середина 70-х годов. Фото из архива Б.Ф. Мясоедова
2 сентября 2025 года выдающемуся отечественному ученому, радиохимику, академику РАН Борису МЯСОЕДОВУ исполнилось 95 лет. Как происходило становление ученого, о его участии в атомном проекте СССР с юбиляром беседует член-корреспондент РАН Александр ТОЛСТИКОВ.
– Борис Федорович, расскажите, пожалуйста, о наиболее интересных фактах биографии молодого Бориса Мясоедова, получившего высшее образование в Московском химико-технологическом институте им. Д.И. Менделеева, знаменитой Менделеевке. Мне известно, что во время обучения вы перешли с кафедры органической химии на кафедру физической химии и сразу же окунулись в очень сложную научную проблему тех лет – атомный проект в СССР.
– Знаешь, Александр, я жил в счастливые годы. Это была молодость, хотелось многое сделать, все объять. Судьба и мои учителя были ко мне благосклонны.
После окончания Менделеевского института я оказался в Академии наук, в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ), в котором директором был тогда еще не столь известный Александр Павлович Виноградов. Впоследствии он стал вице-президентом Академии наук СССР, одним из выдающихся отечественных ученых, основателем и руководителем первой отечественной кафедры геохимии в МГУ.
Я оказался в ГЕОХИ в какой-то степени случайно, когда в нашей стране начиналась реализация атомного проекта, о котором мало кто знал. О нем стало известно в середине 60-х годов прошлого столетия. Действительно, тогда в ряде вузов проходила подготовка специалистов, причем организованная быстро, квалифицированно, на добровольной основе. Правда, брали только успевающих студентов, переводили их на специальные факультеты, не сообщая, чем они будут заниматься. Ни о какой радиоактивности мы не имели понятия.
Готовили нас тогда для развивающейся атомной промышленности, в том числе для работы на закрытом предприятии «Маяк» в Челябинской области и Горно-химическом комбинате в Красноярске. Группу студентов Менделеевки, в которую входил я, готовили для Красноярска. Но проект задерживался, а выпуск студентов состоялся вовремя, и поэтому на диплом я попал в ГЕОХИ им. В.И. Вернадского. Его директор, Александр Павлович Виноградов, как теперь известно, был правой рукой Игоря Васильевича Курчатова – главного научного руководителя атомной проблемы в СССР. Они были друзьями.
Виноградов отвечал за аналитическое обеспечение работ по атомной тематике в стране. Он отчетливо понимал, что любой процесс, связанный с атомным проектом, нуждался в новых методах контроля, более чувствительных, более тонких и селективных. Таким образом, Александр Павлович был заместителем Курчатова по аналитическому контролю, включая химию неизвестного тогда плутония, одного из первых искусственных радиоактивных элементов в периодической таблице Менделеева.
Я начал работать в ГЕОХИ в феврале 1954 года, то есть в середине прошлого века, и вскоре по распоряжению Виноградова был командирован в город Дубну, который сыграл большую роль в моей последующей жизни. Тогда это был закрытый город, не было его настоящего названия. В разговоре специалистов и в документах он назывался «полигон на Волге». Я знал, что некоторые сотрудники ГЕОХИ ездят на полигон на Волге, а где он расположен – под Москвой или Астраханью – не представлял ясно.
Таким образом, сотрудники ГЕОХИ участвовали в работах в Дубне, а там был самый мощный синхротрон для ускорения заряженных частиц. Мы занимались изучением продуктов деления разных металлов под действием высокоэнергетических протонов. В Дубне ГЕОХИ выстроил свой домик – лабораторию для работы с высокорадиоактивными препаратами, получавшимися после облучения исходных мишеней из различных металлов. Я был командирован туда в качестве руководителя будущего филиала ГЕОХИ в Дубне. Находясь именно там в 1954 году, я однажды утром услышал по радио, что в Советском Союзе запущена первая в мире атомная электростанция в городе Обнинске.
Моя миссия в Дубну была недолгой. В октябре 1954 года мне позвонил Александр Павлович Виноградов и сказал: «Борис Федорович! Вы должны срочно прибыть в лабораторию измерительных приборов (так назывался тогда Курчатовский институт). Я там тоже буду и при встрече объясню новые цели и задачи».
Вот так я в конце 1954 года оказался снова в Москве, в Курчатовском институте. Конечно, это была не нынешняя Москва. Институт Курчатова фактически находился на ее окраине. В нем была прекрасно оснащенная лаборатория, организованная по инициативе Георгия Николаевича Флёрова, известного нашего физика, академика, знаменитого еще и тем, что именно он обратил внимание Сталина на необходимость более нацеленного развития атомной энергетики и ядерного вооружения в стране.
Таким образом, в 1954 году по инициативе Флёрова при поддержке Курчатова в Советском Союзе начались широкомасштабные работы по получению новых радиоактивных элементов. Известно, что первые искусственные элементы – нептуний, плутоний и далее последующие до 100-го в Периодической системе Менделеева – были получены американскими учеными при облучении мишени из урана, плутония и нептуния. Георгий Николаевич Флёров возглавил аналогичные работы в СССР. Однажды Курчатов позвонил Александру Павловичу Виноградову – а я повторю, что они были друзьями, – и сказал, что физики задумали получать новые искусственные элементы, но без химиков это будет сделать трудно. Он просит подключить к этим исследованиям молодых сотрудников, химиков-аналитиков из ГЕОХИ. Так, начиная с 1955 по 1960 год, я работал в Курчатовском институте.
– Чем вы занимались?
– Прежде всего необходимо было выбрать исходную мишень для бомбардировки высокоэнергетическими частицами. Естественно, она должна была состоять из элемента из таблицы Менделеева с максимальным атомным номером. Тогда уже имелись доступные количества плутония и нептуния, и мы начали с плутония. К тому времени американцами был открыт 100-й элемент – фермий, который, как и 99-й элемент эйнштейний, был получен при взрывах атомных зарядов в земной породе. При этом используется взрыв с образованием огромной плотности нейтронов, которая не могла быть достигнута в условиях искусственных реакторов. А перед химиками стояла задача выделить из тысяч тонн породы отдельные атомы новых элементов. Вот так были открыты элементы с атомными номерами 99 и 100. Мы начали работать, зная, что эти элементы уже существуют.
В 1955 году стало известно, что американские ученые Гиорсо, Харви, Чоппин, Томпсон и Сиборг синтезировали 101-й элемент, который был назван менделевий. Наша задача состояла в том, чтобы готовить мишени, которые потом облучались тяжелыми ионами азота, кислорода и углерода. В результате облучения получался элемент тяжелее на пять-шесть единиц по атомным номерам.
Готовить мишени было сложно, потому что при облучении образовывались не только атомы нового элемента, но и продукты распада, а главное – примеси стабильных тяжелых элементов, например железа, которые мешали. Поэтому требовалась глубокая очистка от этих элементов и примесей. Так случилось, что сектор Флёрова, который возглавлял эти работы, находился на том же этаже, на котором был и кабинет Курчатова. По дороге к нему Игорь Васильевич заходил нередко к нам в лабораторию и спрашивал, как идут дела и когда мы получим новый элемент. А мы тогда планировали синтезировать новый элемент с атомным номером 104.
– Расскажите, как вы готовили себя к экспериментальным работам: какие средства индивидуальной защиты были предусмотрены и использовались повседневно? Как выглядел экспериментатор в лаборатории, в которой находились и синтезировались новые радиоактивные элементы?
– Мы выглядели не так, как сейчас выглядят экспериментаторы в современных радиохимических лабораториях. Мы знали технику безопасности, нас этому учили. Мы знали, что всякое излучение вредно. Хотя, как тебе известно, малые дозы, в частности, природного радона, так называемые радоновые ванны, использовались человеком в оздоровительных целях задолго до открытия радиоактивности и всего того, что связано с ядерной энергетикой.
Мы работали только в халатах, эксперименты проводили в специальных герметичных боксах с перчатками. Все исследования с плутонием, в том числе по изготовлению мишеней, проводились в этих боксах. Что же касается навыков, то, конечно, даже на специальных факультетах это не преподавалось. Все потом постигалось нами эмпирическим путем, в процессе работы.
– Простите, я прервал вас… Вернемся к рассказу об экспериментальных исследованиях.
– Итак, готовили мы тонкие мишени для облучения методом электролиза для того, чтобы они эффективнее простреливались ускоренными частицами и взаимодействовали с веществом плутония. Работа эта была тяжелой, долговременной, так как осаждение на мишень надо было проводить с малой скоростью, чтобы слой на ней не был рыхлым. Иногда на изготовление мишени уходило несколько дней, даже недель. Поэтому работали мы посменно, круглые сутки, даже ночью.
Изготавливались эти мишени, как правило, на алюминиевой и танталовой фольге. Их облучали соответствующими частицами углерода, азота, кислорода. Затем, после этой процедуры облучения на циклотроне, который находился в отдельном помещении в километре от центрального здания, образцы доставляли бегом методом эстафеты в два приема в аналитическую лабораторию. Центром передачи эстафеты из одних рук в другие был бюст Ленина на территории института, который делил путь доставки пополам.
У меня об этих эстафетах на всю жизнь осталась память на четырех пальцах правой руки. Они от контактов с радиоактивным веществом стали очень чувствительными. С них до сих пор сходит кожа.
Отвлекаясь от главной темы, скажу, что за свою жизнь я много раз бывал в Америке, часто сопровождал в поездках на различные международные форумы и заседания комиссий по утилизации ядерных отходов и разоружению вице-президента РАН академика Николая Павловича Лаверова.
Как известно, при получении визы в Америку необходимо пройти процедуру снятия отпечатков пальцев рук, что я, как и все, делал. Но когда я проходил визовый контроль в американских аэропортах и прикладывал правую руку на специальное устройство, считывающее отпечатки пальцев, часто возникали конфликты: мне говорили, что это не мои пальчики. Тут же прибегали полицейские – и меня препровождали на таможню для разборки.
Оказывается, со времени получения визы и моего перелета на Американский континент с пальцев правой руки в очередной раз сходила кожа, что и приводило к трудностям идентификации моих отпечатков. Слава богу, это проходит. Кожа меняется, и отпечатки появляются.
Но вернемся в 1955 год, к нашей эстафетной беготне с образцами мимо бюста Ленина на территории Курчатовского института.
Растворив обработанную на циклотроне мишень, мы начинали выделять предполагаемый элемент, свойства которого были неизвестны. В это время получила развитие ионно-обменная хроматография на ионно-обменных смолах, в том числе на катионитах – отечественном КУ-2 и импортном Dowex-50.
Физически процесс заключался в различной сорбции продуктов реакции на слое катионита с последующим вымыванием отдельных фракций изомасляной кислотой. Порядок вымывания всех элементов был известен: первым вымывался самый тяжелый, и далее шли элементы по убыванию атомной массы. Мы знали свойства открытого к тому времени 100-го элемента, его положение на хроматографическом слое катионита при вымывании. Поэтому все, что вымывалось перед ним, могло быть более тяжелыми элементами, в том числе и 104-м.
Полученные отдельные фракции идентифицировались по энергии альфа-частиц. Тогда не было компьютеров. Стоял большой шкаф, в который было вмонтировано 100 щелкающих счетчиков со стрелочкой, напоминающих часы. Было известно, что чем тяжелее ядро элемента, тем энергичнее эти ядра испускают альфа-частицы. Мы ставили эти счетчики на ноль и собранные фракции анализировали по энергии альфа-частиц. Представь себе, что надо было вручную поставить на ноль 100 счетчиков, а далее успевать следить, отмечая, на каком и сколько произошло щелчков. Несмотря на эту рутину, исследования успешно продвигались.
Но в экспериментах с отечественным катионитом КУ-2 при вымывании изомасляной кислотой, которая использовалась в качестве 0,1–0,5 молярного раствора в азотной кислоте, возникали определенные технические проблемы. Ситуация значительно упрощалась при ионно-обменной хроматографии на импортном катионите Dowex-50, которого у нас было мало.
Как-то при очередном посещении нашей лаборатории Курчатов задал вопрос про экспериментальные трудности. Мы ему ответили, что у нас не хватает ионно-обменной смолы Dowex-50. Игорь Васильевич всегда ходил с помощником-адъютантом, которого тут же попросил записать, что нам срочно необходимы импортные смолы, хроматографические колонки Шотта соответствующих марок. И что ты думаешь? Через неделю целый вагон необходимой посуды и ионно-обменной смолы был в нашем распоряжении. Кстати, это была тема, напрямую не связанная с оборонкой, это было чисто научное направление исследований. Вот такое было отношение к науке у Игоря Васильевича Курчатова.
– А чем был вызван перевод сектора Флёрова в Дубну?
– В 1959 году в Дубне был построен специальный циклотрон, который разработал Георгий Николаевич Флёров для ускорения многозарядных ионов – не только кислорода, но и более тяжелых ионов, в том числе урана. Была идея стрелять ионами урана по урану и получать всевозможные элементы.
Приняли решение, что вся лаборатория Флёрова переезжает в Дубну. Она получила название Лаборатория ядерных реакций, ЛЯР. Тогда еще не было Объединенного института ядерных исследований, он возник в 60-м году прошлого столетия. Рядом с этим институтом построили поселок для ученых, впоследствии названный Дубна.
Мне пришлось делать выбор, где продолжать свои работы. Флёров очень хотел, чтобы я стал руководителем химического отдела в институте в Дубне, а Александр Павлович Виноградов меня не отпустил из Москвы, из ГЕОХИ. Да и семейные обстоятельства складывались не в пользу переезда в Дубну. Моя супруга готовила кандидатскую диссертацию, которую защитила раньше, чем я свою. Поэтому я вернулся из «Курчатника» в ГЕОХИ, а с Дубной поддерживаю отношения по настоящий день.
В результате многолетних исследований в Дубне мы имеем самые крупные достижения в области синтеза и исследования свойств радиоактивных элементов даже в сравнении с США. В наши дни мы являемся свидетелями открытия элементов с 110-го по 118-й. Большая часть этих элементов синтезирована в Дубне в Лаборатории ядерных реакций, носящей сегодня имя Георгия Николаевича Флёрова, а 114-й элемент был назван флеровий.
Как-то еще в 1958–1959 годах Флёров сказал мне, что есть один перспективный молодой человек, окончивший московский Физтех, который хочет устроиться к нам на работу. Георгий Николаевич попросил меня встретиться с этим человеком и выяснить, действительно ли он идет к нам. Я выполнил просьбу Флёрова, поговорил с молодым коллегой, и он мне сразу понравился. Об этом я сказал Георгию Николаевичу. Молодым специалистом, которого приняли на работу в лабораторию, оказался ныне всемирно известный ученый, академик Юрий Цолакович Оганесян, открывший впоследствии несколько новых радиоактивных элементов, разработав новейшие методы их синтеза. Один из этих элементов, 117-й, получил в 2016 году название «оганесон».
Так что теперь не мы ездим к американцам учиться, а они принимают участие в совместных экспериментах по синтезу и изучению свойств новых элементов. У нас лучшие в мире циклотроны, лучшие в мире источники ионов. Но американцы обладают значительными запасами радиоактивных элементов – берклия и калифорния. Калифорний до 1990 года активно использовался в качестве нейтронного источника. У него сравнительно небольшой период полураспада, приблизительно 2,5 года. Миллиграммовые количества калифорния – это фактически портативный ядерный реактор. Калифорниевые источники широко используются для нейтронно-активационного анализа.
– Борис Федорович, не кажется ли вам, что развитие науки в XX веке в Советском Союзе можно сравнить с развитием искусства Высокого Возрождения в Италии в Средние века. Это беспрецедентный пример в истории мировой цивилизации.
– Согласен, в СССР развитие науки шло в гору семимильными шагами, и явление радиоактивности, которое было открыто нобелевскими лауреатами Марией Склодовской-Кюри и Пьером Кюри в конце XIX века, не только получило отражение в месте открытия первых радиоактивных элементов – радия и полония, но и нашло развитие в передовых странах того времени – США и, практически одновременно и независимо, в Советском Союзе. Владимир Иванович Вернадский еще в начале XX века писал, что человек имеет теперь в руках источник огромной силы, и от того, как он им воспользуется, будет зависеть будущее развития общества.
Кстати, в том контексте, о котором вы говорите, проводя аналогии между развитием искусства Высокого Возрождения в Италии в Средние века и развитием науки в ХХ веке в СССР, хочу сказать еще несколько слов о Георгии Николаевиче Флёрове. Это был крупный ученый, все свое время отдававший науке. По работе он мог позвонить и в два, и в три часа ночи. Даже тогда, когда Флёров окончательно переехал в Дубну, а я остался в ГЕОХИ в Москве, Георгий Николаевич мог позвонить мне когда угодно. Не один раз ранним утром после телефонного звонка я, сонный, вскакивал с постели, хватал трубку и слышал голос Флёрова: «Борис, я тебя не разбудил?» Я, протирая глаза, отвечал, привирая: «Нет, нет, Георгий Николаевич, что вы, я уже давно встал». И далее два часа следовал разговор по телефону. Я иногда не знал, что делать. Мне уже давно пора на работу, говорю ему об этом. Ответ Флёрова был почти одним и тем же: «Ничего, подождет твоя работа. Мы и так уже два часа с тобой работаем по телефону».
Поэтому считаю, что основную закалку, основные черты ученого я приобрел в годы общения с Георгием Николаевичем. Все в этом общении было новым и нестандартным, особенно физика, которую надо было знать и понимать в приложении к проблеме радиоактивности. Конечно, в «Менделеевке» нам давали азы физической науки, но это было далеко не то, с чем пришлось столкнуться далее в научной жизни.