
|
|
Бросить все и немедленно улететь на Лазурный Берег. Пьер Боннар. Лазурный Берег. 1923. Собрание Филипса, Вашингтон |
Новая книга об этой достопримечательности принадлежит перу Алисы Даншох. Книга относится к промежуточному жанру. Это что-то среднее между научно-познавательным и художественным повествованием. Процитирую некоторые фрагменты из своеобразного послесловия ученого и писателя Василия Зубакина, помещенного на последней странице обложки: «Жанр этой книги – неуловимый, почти небывалый. Это и интеллектуальный культурологический травелог, и теплая одухотворенная история с географией, и цикл эссе о приметах и гениях места… Поэтому я отношусь к новой книге Алисы Даншох как к лекарственному средству для повышения иммунитета и панацее от плохого настроения, поэтому и описание – строго формальное». Далее Зубакин объясняет, в чем же проявились фармакологические свойства прочитанной им книги: «Она наполнена большими дозами солнца, моря, красоты; личные истории переплетены с историей Лазурного Берега: множество персонажей – от продавца цветов на рынке в Ницце до Александра II, от Герцена до Кокто, от Гарибальди до Сомерсета Моэма. И очень много любовных историй…» Зубакин описывает также ситуации, при появлении которых прочесть эту книгу просто необходимо. К тому же она может быть использована как лечебное снадобье: «Ухудшение настроения в период поздней осени, когда пасмурно, слякотно. Летний загар уже исчез, идти из дома некуда, а алкоголь в больших дозах вреден». Не забывает он и о противопоказаниях: «Не совмещать с просмотром сериалов; допустимы только фильмы Вуди Аллена». Последствие передозировки одно: «Прочтение залпом в течение суток может привести к острому желанию бросить все и немедленно улететь на Лазурный Берег». Со своей стороны, добавлю, что при чтении книги Даншох я не мог избавиться от назойливой мысли. Мне хотелось, чтобы автор наконец-то приподнял завесу и открыл мне какую-то важную тайну, имеющую непосредственное отношение ко всем людям. На эту мысль наводит повествование книги, окутанное легким флером таинственности, а также стиль, отличающийся душевной непосредственностью.
По прочтении «Вступления», претворяющего последующие за ним восемнадцать историй, возникает предположение, что эта книга с детективной подоплекой. Эту мысль подтверждает пропажа чемодана, до отказа набитого еще не ношенной модной одеждой. Именно с этого неприятного события начинается повествование. Когда-то в далекие времена она сопровождала мужа на важный научный симпозиум, проходивший в Монако. В аэропорту Брюсселя они пересели на другой самолет. По прилете выяснилось, что у них пропал чемодан, набитый до отказа ее и мужа «парадной» одеждой. Я подумал, что эта пропажа не случайна и предваряет детективный сюжет. Прочитав первую историю «Рождение мифа», понял, что «пропавший чемодан» – развернутая метафора. Она помогает читателю более или менее адекватно понять смысл проживаемой героиней жизни.
В «Истории первой» Алиса Даншох рассказывает, как и благодаря чему и кому обрели известность и славу 300 километров изрезанного побережья Средиземного моря. Ведь подобных мест в мире немало. Как справедливо замечает автор, они существуют в Италии, Испании, Португалии, Греции, Болгарии, в Крыму, на Кипре, в Турции. Отчего же так случилось, что всемирную известность получил Лазурный Берег? Оказывается, что его на эту непомерную высоту вознесли мифы и легенды. Алиса Даншох, страница за страницей, ведет читателя, как опытный проводник, сквозь дебри истории, сдабривая свое повествование разнообразными мифами. Она знакомит его не только с историческими достопримечательностями, существующими мифологемами, а проще говоря – россказнями, но и с выдающимися людьми. С теми личностями, кто жил на Лазурном Берегу в разное время. Что касается истории, она у нее также необычная – мифологизированная. А как убежден автор, «у всех уважающих себя мифов ноги растут из Древней Греции и Рима».
Алиса Даншох обращает внимание на то, что этот край сначала пришелся по душе грекам. Она выделяет одно важное обстоятельство, заставившее греков смотреть дальше своего носа: «У них было всего так много, что пропажа излишков являлась острой необходимостью. Для реализации товаров они прокладывали торговые пути и обустраивали торговые центры по всем соседним с Грецией побережьям. Так на Средиземноморье появилась мощная колония Массалия (теперешний Марсель) и поселения поменьше – Антиполис (Антиб), Никея (Ницца) и прочие в местных удобных гаванях. Им хотелось не только плавать по морям, но свободно перемещаться по оторванной от родины суше». Однако греки не учли главной опасности – присутствия лигурийцев, кельтов и прочих племен, которые нападали на торговые караваны чужестранцев, проходящих неподалеку от их поселений. Как бы то ни было, грекам оказалось не по силам выполнить то, что они задумали и на что надеялись. Тогда они обратились за помощью к Риму, который смог бы без особых усилий утихомирить племена лигурийцев, кельтов и прочих. Римляне тут же согласились, прозорливо усмотрев для себя огромную выгоду в будущем. Конечный результат римской помощи был ошеломляющим.

|
|
Алиса Даншох. Истории из пропавшего чемодана. Мифы Лазурного Берега.– М.: У Никитских ворот, 2025. – 304 с. |
И все-таки права была Марина Цветаева, считавшая «самым ценным в жизни и стихах то, что сорвалось». Бытовые неприятности в жизни творческих людей, если говорить прямо и откровенно, пробуждают воображение, стимулируют фантазию. Пусть редко, но все-таки случается, что присутствующая в этих людях божья искра разгорается в мощное пламя. Алиса Даншох мудрый оксюморон Марины Цветаевой, как я предполагаю, приняла не сразу, а по прошествии какого-то времени. Именно тогда, как мне кажется, и появилась ее книга о пропавшем чемодане и мифах Лазурного Берега. Она состоит из восемнадцати историй-глав. Цифра восемнадцать не случайна, она ненавязчиво намекает на эзотерический характер всего повествования. Согласно нумерологии, люди, опекаемые сакральным числом восемнадцать, богаты и обладают лидерскими наклонностями. Что касается богатства, не стоит забывать высказывание о нем Артура Шопенгауэра: «Богатство не облегчает наших забот, но подменяет одни заботы другими». Однако вернемся к тем, кто опекается цифрой восемнадцать. Они смелы и решительны в действиях. К тому же амбициозны и добиваются поставленной цели, несмотря ни на что. Им присуще осмысленное и углубленное понимание жизни. Те, кто охраняем этим сакральным числом, принимают разумные решения. Обладая сильной энергией, они не забывают заботиться и о других людях. В общем, живут в гармонии и согласии с окружающим миром и его обитателями.
Первая глава-история книги озаглавлена: «Рождение мифа». Тут будет к месту вспомнить высказывание французского писателя, художника и кинорежиссера Жана Кокто (1889–1963): «История – это правда, которая становится ложью. Миф – это ложь, которая становится правдой». Неменьший интерес вызывает умозаключение Максима Горького: «Когда природа лишила человека его способности ходить на четвереньках, она дала ему в виде посоха – идеал! И с той поры он бессознательно стремится к лучшему – все выше!» Даншох цитирует фразу из очерка Александра Куприна «Лазурные берега»: «Все лжет на Лазурном побережье. Одни римские развалины не лгут». И тут же она добавляет, что еще, кроме развалин, римляне и греки оставили потомкам. Оказывается, много чего нужного и полезного. Особенно для здоровья человека и его комфортного образа жизни. Так, римляне построили акведуки и дороги, а по всему Лазурному Берегу высадили тысячи хвойных деревьев. В основном зонтичные пинии. Это вечнозеленое дерево семейства сосновых. Как отмечает Даншох, «во времена великих римских императоров они подкармливали солдат лакомыми зернышками своих плодов». Греки предпочитали зонтичным пиниям смоковницу обыкновенную, а говоря проще – инжирное дерево. Читатель узнает из книги много любопытного о кулинарных изысках того времени, некоторые из них дошли и до наших дней. Например, приправа «гарум», которой «улучшали вкус всех блюд римской кухни, включая гусиный паштет и десерты».
Событие, кардинально изменившее отношение в западном мире к Ницце, произошло в 60-е годы XVIII века и персонифицировалось в образе появившегося в ней шотландца Тобиаса Джорджа Смоллетта (1721–1771), английского писателя и врача. Напомню названия его трех известных у нас и переведенных на русский язык романов: «Приключения Родрига Рэндома»; «Приключения Перигрина Пикля»; «Путешествие Хамфри Клинкера». Еще добавлю, что в его честь названа одна из центральных улиц Ниццы. Алиса Даншох приводит причину появления сорокадвухлетнего Смоллетта в Ницце весной 1763 года: легочный недуг. Тогда Лазурный Берег еще не рассматривался как здравница. Ежедневные купания в холодных водах залива незнакомого иностранца у гуляющих по берегу людей вызывали шок. Пловца посчитали сумасшедшим, которого необходимо изолировать в психиатрической лечебнице. Такого же мнения придерживались и местные врачи. Они полагали, что подобные водные процедуры приведут самонадеянного шотландца к печальному исходу. Смоллетт между тем не унывал и в письмах из Ниццы друзьям и знакомым, расхваливая на все лады Ниццу и ее окрестности, сообщал, что с каждым новым днем чувствует себя все лучше и лучше. А затем произошло главное событие. О своей практике лечебного закаливания он пишет книгу и издает ее в 1766 году под названием «Путевые заметки о путешествии по Франции и Италии». Для описания целительного воздуха Ниццы и доказательств его эффективности в лечении многих заболеваний Смоллетт не пожалел красок и аргументов: «…сухой, тяжелый и эластичный, он подходит многим, кто страдает нервами, проблемами кровообращения…» Нет ничего удивительного, что Тобиас Смоллетт, как справедливо отмечает Алиса Даншох, «своими морскими купальными экзерсисами и их описаниями заложил первый камень в строительство курортной Ниццы, ставшей в девятнадцатом веке одной из европейских здравниц. После многовекового перерыва бальнеотерапия вновь вошла в моду». Поясню, что медицинский термин «бальнеотерапия» состоит из латинского слова, означающего «баню», «ванну», «купание» и греческого – «лечение».
Среди жителей Лазурного Берега были и русские. Вспомним, что Герцен похоронен на Замковом холме в Ницце. Я не говорю уже о первой волне эмиграции после Октябрьского переворота в 1917 году. Перелистайте хотя бы (а лучше прочитайте) книгу Ивана Грезина «Русское кладбище Кокад в Ницце» (М., 2012) и будете потрясены количеством могил.
Даншох не обходит также вниманием нелепый памятник в аэропорту Ниццы. Перед зрителями предстает странная фигура «из огромных кусков-блоков невыразительного серо-грязного не то камня, не то бетона, опутанная колючей проволокой». Автор книги предлагает заменить эту импровизацию памятником поэту и прозаику Стефану Льежару. Ведь именно с издания его романа началась мифологизация этого участка суши у Средиземного моря. А пока суть да дело, в аэропорту Ниццы поставить указатель: «Добро пожаловать в страну Мифляндии «Лазурный Берег»!» А также любезно предлагает читателю пройтись по выбранным ею «мифоместечкам», где с ней приключались разного рода истории.




























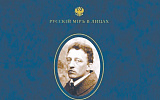
комментарии(0)