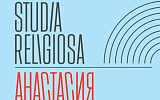В сегодняшнем выпуске БН – книги по истории, истории науки и социальной истории науки.
Без сантиментов

|
|
Витковски Н. Сентиментальная история науки / Никола Витковски; пер. с фр. Д. Баюка. – М.: Колибри, 2007. – 448 с. – (Мелкоскоп), 18,5 х 11,5 см. Тираж 5000 экз. ISBN 978–5–97820–037–7 |
35 коротких глав своей книги он снабдил коротенькими приложениями – отрывками из сочинений самих персонажей или из сочинений их современников. Вот, например, неожиданный поворот в «деле» Ньютона (глава «Рукодельник Ньютон»).
В основе фундаментальных открытий, оказывается, могут лежать детские игры: Ньютон мастерит водяные мельницы, начитавшись Джона Бейтса («Тайны природы», 1634) и преподобного Джона Уилкинса («Математическая магия, или Чудеса, которые можно совершить при помощи механической геометрии», 1648). И совсем уж раритет для современного научпопа – Витковски помещает отрывки и из этих книг. Например, из книги Джона Бейтса. В главе «Причуды» (Extravagants) Бейтс помимо прочего приводит рецепт снадобья от кровотечения: «Найдите в мае черную жабу и высушите ее между двумя кусками черепицы, положите в маленький мешочек и повяжите на шею пациенту». Если, конечно, к тому времени пациент не отдаст концы от потери крови...
А мы-то, по привычке, думали (да что там – были уверены!), что наука и истина – это близнецы-братья. Ничего подобного.
«Задача изложенной ниже сентиментальной истории – представить ученых прошлого в их целостности, а следовательно, и сложности, стирая, по возможности, границу между тем, что относится к истории науки, и тем, что к ней не относится. И тогда обнаруживаются новые связи, неожиданными голосами откликается эхо...» – настаивает Витковски.
Вот эти-то эхо – самое «вкусное» в книге. Собственно, вся она и состоит из этих «звуковых» цепочек разной длины.
Например, про молодого еще тогда швейцарского философа Никола Фацио (1664–1753): «Пожираемый, как и его покровитель Исаак Ньютон, вселенским любопытством, он предпочитал тень религиозного фанатизма свету Разума. Эта дилемма жива по сей день, что хорошо известно руководителям сект, которые предпочитают искать своих адептов в научной среде» (глава «Тихий ангел пролетел. Никола Фацио де Дюийе»).
А вы говорите, история науки – это история истины. И истины, конечно, тоже. Но прежде – история нормальных (и не нормальных тоже) человеческих страстей разной степени интенсивности.

|
|
«Великий любитель науки и виски Эдгар По сочинил целую историю про мумию и электричество... Так что наука и поэзия иногда прекрасно уживаются». Иллюстрация из рецензируемой книги |
Ничего удивительного, что к моменту возвращения в Париж за Мопертюи увязались, к большому его неудовольствию, две очаровательные лапландки. Вольтер спешит съязвить: «Трем коронам неплохо б вернуть двух прелестных лопарок, / заодно угломеры и рейки – хотя инструмент не подарок. / Все, что вы доказали в пустыне унылейшей этой, / Ньютон знал, не ступивши за дверь своего кабинета».
В 1735 году, или около того, Мопертюи посещает замок Сирей, где проживали Вольтер со своей «прекрасной подругой» Эмилией де Шатле («Я вижу лишь одно – планету Эмили», – напишет про нее Вольтер). Дальнейшее опять не обходится без Ньютона: «Сначала Вольтер умолял Мопертюи исправлять его скромные научные сочинения, затем и Эмилия, будущая переводчица ньютоновских «Начал», познала с новоиспеченным членом Парижской академии некоторые тонкости всемирного притяжения».
Здорово, стильно написано – не правда ли!
Предельная ограниченность женского образования заставила чуть позже, в конце XVIII века, Эразма Дарвина внести свою лепту в устранение этого недочета (глава «Дедушка Дарвина»). Это была странная «смесь художественных, атеистических и антропоморфических вариаций на тему половой жизни растений», – отмечает Витковски.
Кстати, горячей поклонницей «образовательной реформы» Эразма Дарвина была одна из первых феминисток Мэри Уолстонкрафт (1759–1797), будущая мама романистки Мэри Шелли, автора «Франкенштейна»…
«Сентиментальная история науки» Николы Витковски – это именно «несдержанная» концепция науки, не сдержанная тем самым ползучим позитивизмом, позволяющим «ленивым умам тешить себя мыслью, что история науки – это история истины». Наука – это то, чего не может быть, то, что может быть, – это научно-технический прогресс. Витковски написал книгу про науку.

|
|
Лев Николаевич Гумилев. География этноса в исторический период. – Л.: Наука, Ленинградское отделение. АН СССР, Географическое общество СССР, 1990. – 279 с.: ил. 22,2х15 см. Тираж 30 000 экз. Публикуется в редакции автора. ISBN 5–02–027164–0 |
«Еще в шестнадцать лет Гумилев поставил перед собой задачу, решением которой он будет заниматься большую часть своей жизни: «... откуда появляются и куда исчезают народы? Были финикийцы – и нет их. Французов не было, как таковые они появились в IX веке. Этносы Южной Америки вообще сформировались в то время, когда была молода моя бабушка...».
Ответ на этот вопрос как будто пришел в 1939 году, когда Лев ждал пересмотра своего дела в камере «Крестов». Здесь, под нарами (на нарах днем запрещалось даже сидеть, не то чтобы лежать), Гумилев и открывает пассионарность. Озарение в тюремной камере – может быть, самое главное событие его жизни» – так описывает С.С. Беляков рождение одной из самых интригующих естественно-научных гипотез ХХ века (Сергей Беляков. Гумилев, сын Гумилева. М., 2013).
«Необычные воззрения Л.Н. Гумилева на этногенез взбудоражили общественность, способствовали развитию интереса к истории народов, их взаимоотношениям с природой, – пишет редактор и автор предисловия к «Географии этноса в исторический период», доктор географических наук В.С. Жекулин. – Предлагаемая читателям книга – как бы квинтэссенция сложной теории этногенеза, изложенной в предыдущих работах автора, но на сей раз преподнесенной более широкому кругу читателей в форме доступной и увлекательной, зачастую даже в художественно-образной, полной сарказма и иронии».
Сам Лев Николаевич Гумилев так определяет тему и цель своей работы: «Эта книга посвящена описанию той общей схемы процесса, которая одинаково присуща ходу любого этногенеза в биосфере Земли. Известно, что человечество как вид – едино и в данном аспекте представляет собой антропосферу нашей планеты. Однако внутривидовое этническое разнообразие позволяет нам рассматривать мозаичную антропосферу как этносферу – часть биосферы Земли. Но чем же определяется единство разнообразных этногенезов?
Оказывается, что в их основе лежит только одна модель этногенеза, проявляющаяся в последовательности фаз. Эта модель иллюстрирует частный случай проявления второго начала термодинамики (закона энтропии) – получение первичного импульса энергии системой и затем последующая растрата этой энергии на преодоление сопротивления среды до тех пор, пока не уравняются энергетические потенциалы».
А ключевому термину своей теории Гумилев дает такое определение: «Пассионарность – это характерологическая доминанта, непреоборимое внутреннее стремление (осознанное или, чаще, неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели (часто иллюзорной). Заметим, что цель эта представляется пассионарной особи иногда ценнее даже собственной жизни, а тем более жизни и счастья современников и соплеменников».
Несомненно, сам Л.Н. Гумилев был таким пассионарием…
«Домашний мальчик, воспитанный бабушкой-дворянкой, в сталинском Советском Союзе выжить не мог. Он должен был исчезнуть», – констатирует Сергей Беляков. И, надо сказать, государство сделало все, чтобы так оно и произошло. Однако пассионарный импульс Льва Гумилева оказался сильнее всей государственной махины СССР.
В «Географии этноса в исторический период» он пишет: «Этносы являются биофизическими реальностями, всегда облеченными в ту или иную социальную оболочку. Следовательно, спор о том, что является первичным – биологическое или социальное, подобен тому, что первично в яйце – белок или скорлупа? Ясно, что одно невозможно без другого и поэтому диспут на эту тему беспредметен».
Лев Гумилев воевал рядовым в зенитно-артиллерийском полку на Западном фронте. Освобождал Польшу. Получил благодарность «за отличные боевые действия при прорыве сильно укрепленной обороны немцев восточнее города Штаргард и овладении важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании»…
В 1961 году защищает докторскую диссертацию «Древние тюрки. История Срединной Азии на грани Древности и Средневековья (VI –VIII вв.)». Одна за другой начинают выходить его монографические исследования: «Хунну» (1957), «Открытие Хазарии» (1966), «Древние тюрки» (1967), «Хунны в Китае» (1974) …
В 1974 году Гумилев защищает диссертацию «Этногенез и биосфера Земли» на звание доктора географических наук, но Высшая аттестационная комиссия не утверждает ее. Во многом все это происходит потому, что в своих книгах Лев Гумилев обосновывает мысль, которая посетила его в 1939 году под нарами тюрьмы «Кресты»: этнос – это сложная динамическая система; фазы этногенеза определяются уровнем пассионарности составных частей этой системы.
В последних абзацах «Географии этноса в исторический период» Лев Гумилев очень четко определил одну из возможных форм проявления этого пассионарного импульса, который, заметим, определил и всю его судьбу: «Огненная» наука – творческая вспышка, в которой ассоциации, вроде бы случайные, сливаются в нечто целое, единое, новое, т.е. неизвестное автору доселе. Научная мысль, необходимый труд, самопроверка и проверка первичных данных не предшествуют огненной вспышке озарения, а следуют за ней, обрекая автора на служение научной идее, возникшей помимо его желания, а иногда и вопреки его намерениям. Эти моменты, случающиеся крайне редко, можно понять как внезапные импульсы влечения (аттрактивности), вырастающие внезапно и подчиняющие себе рассудок и волю человека на весь остальной период его земного существования. Именно они отличают «ученого» от «научного сотрудника», которому я больше ничего не сумею объяснить».

|
|
Борис Семенович Илизаров. Почетный академик Сталин и академик Марр. О языковедческой дискуссии 1950 года и проблемах с нею связанных – М.: Вече, 2012. – 432 с., 4 л. вклейки. – (Тайная жизнь вождей). 21,6х14 см. Тираж 3500 экз. ISBN 978–5–9533–6266–5 |
В № 1 за 1935 год журнала «Фронт науки и техники» был помещен развернутый – больше, чем на пять страниц, – некролог, автором которого был филолог Израиль Франк-Каменецкий «Академик Н.Я. Марр». Начинался он так: «В ночь на 20 декабря 1934 г. после продолжительной и тяжкой болезни скончался гениальный лингвист и мыслитель, крупный общественно-политический деятель, академик Николай Яковлевич Марр, вице-президент Всесоюзной Академии наук, директор и основатель целого ряда ученых учреждений, член Коммунистической академии, член ВКП(б), член Правительства и многолетний председатель Секции научных работников. Многотысячная толпа проводила его до могилы. Партия и правительство, ученые учреждения и общественные организации, широкие круги студенчества, представители Красной армии и флота – все с одинаковой теплотой и участием отозвались на тяжелую утрату, понесенную советской наукой и общественностью».
Сын шотландского эмигранта, руководившего сельскохозяйственной школой, и молодой грузинки из Гурии, Николай Марр родился 25 декабря (по ст. ст.) 1864 года на окраине Кутаиси. Родным языком его был грузинский. В восемь лет потерял отца. В 1884 году поступил на Восточный факультет Петербургского университета. Первая публикация – в 1888 году в газете «Иверия» на грузинском языке. Любопытно, что через несколько лет в этой же газете будут опубликованы юношеские стихи будущего «вождя народов» и «корифея всех наук» Джугашвили-Сталина.
Российский историк Борис Илизаров впервые в советской и российской историографии скрупулезно, на основе огромного корпуса архивных первоисточников и библиографических материалов, реконструировал взаимоотношения Марра и Сталина. В частности, он, например, отмечает такой факт: в личной библиотеке Сталина трудов академика Трофима Лысенко не обнаружено; зато есть работы Ольги Лепешинской и Николая Марра.
«Первые послереволюционные годы наиболее темные в биографии Марра. Я предполагаю, что Марр одним из первых академиков пошел на сближение с большевистской властью не только по собственной инициативе. К этому его могли подталкивать и тогдашние руководители Академии наук, замеченные в сотрудничестве с Временным правительством (академик С.Ф. Ольденбург и др.), для того чтобы иметь возможность на личном уровне хоть как-то взаимодействовать с новой, враждебной властью», – пишет Борис Илизаров.
После 1917 года – академик Академии наук СССР, вице-президент академии. В конце 1920-х годов его кандидатура очень серьезно рассматривалась на должность президента АН СССР. Недаром в 1930 году Марр выступает на XVI съезде ВКП(б) от лица всех советских ученых, всей советской науки.
Но идефикс Марра – найти первоэлементы, из которых построены все языки мира. Илизаров отмечает: «…Марр утверждал, что древнейший способ общения между людьми когда-то больше всего напоминал коллективный ритмический танец-песню, в котором неразъемно сливались: звук, жест, ритм, пляска, смысл, эмоция... У всех людей на земле первоначальный язык был структурно однороден и лишь «исполнялся» с некоторыми племенными различиями. Он походил на множество первичных «языковых моллюсков» (выражение Марра) и был практически нечленоразделен, и только в процессе миллионнолетней эволюции мышления-языка расцвели сотни членораздельных языков разнообразных систем. По каким-то одному ему известным причинам Марр предполагал, что в будущем все языки сойдутся в единый общечеловеческий язык».
Мало того, Н.Я. Марр вычислил эти языковые моллюски – их оказалось всего четыре: SAL, BER, YON, ROШ. Впрочем, как и почему именно эти звуки Марр определил как базовые – академик нигде не пояснял, но громко именовал все это «яфетической теорией».
Известно, что яфетической теорией интересовались поэт Осип Мандельштам и политик Николай Бухарин. Но…

|
|
Генеалогическое древо мировых языков, предложенное академиком Николаем Марром. За что он в итоге и пострадал. Иллюстрация из рецензируемой книги |
Сталин, по-видимому, решил удовлетворить свой еще юношеский комплекс – гуманитарного ученого. «В декабре 1934 года Марр умер своей смертью и с невероятными почестями был похоронен в Александро-Невской лавре, – пишет Борис Илизаров. – Сталин пережил его на девятнадцать лет. И до 1950 года фальшивый сиятельный образ Марра был среди живых участников различных околонаучных событий, как вдруг весной-летом 1950 года стал центральной научно-политической виртуальной фигурой, с которой вождь решил беспощадно разделаться точно так, как он разделывался с живыми. При жизни Марра в 1933 году вышел первый том его собрания сочинений, к 1937 году вышло пять томов в основном ранее опубликованных работ. Запланированные архивные публикации (еще пять томов) не удалось осуществить в связи с арестом и гибелью в сталинских застенках последователя Марра профессора В.Б. Аптекаря, готовившего это сложное издание».
Читал и рассматривал книги Андрей Ваганов