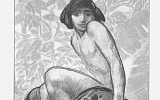Москву экспонируют щедро, иногда в два ряда.
Фото агентства «Москва»
Москву экспонируют щедро, иногда в два ряда.
Фото агентства «Москва»
У проекта «Свой человек. Владимир Гиляровский» один главный герой в заглавии и много – в экспозиции, занявшей весь музей. Отталкиваясь от 170-летия Гиляровского, выставка переходит к разношерстным картинам московской жизни, к техническому прогрессу тогда – «Своего человека» готовили с Политехническим музеем, поэтому спецпроект посвящен фотоаппаратам, велосипедам и прочим новинкам, – и сейчас. Уже в холле зрителя настойчиво ожидает байопик о Гиляровском, сделанный Константином Раенком с искусственным интеллектом в главной роли. Потом будут реанимированные ИИ стародавние городские виды – в этой части к Гиляровскому примкнул столичный Департамент культурного наследия, а еще – предложение создать открытку дореволюционной Москвы или вписаться в сборник «Истории москвичей». Итого – 234 экспоната из 54 музеев и 11 частных коллекций.
Куратор Анастасия Винокурова завершает каталожную статью предложением «пройтись по Москве дяди Гиляя и послушать его собственный рассказ о своей жизни в сопровождении иллюстраций». Выставка открывается картинами, буквально иллюстрирующими избранные обстоятельства жизни Гиляровского. Потом регистры переключаются и цитаты Гиляровского оказываются подверстанными к работам о московских «старостях» и новостях.
Каталог, к которому в музее всегда подходят не как к сопроводительному «продукту», а как к автономному произведению, оформлен в виде увесистой записной книжки, куда ушла и исследовательская часть, включая архивные изыскания. Анастасия Винокурова написала о взаимоотношениях Гиляровского с художниками. Его вкусы были консервативны, любимую картину – крохотную, но большого уныния «Переселенку» Сергея Иванова, – теперь экспонируют. Покупал он часто «дрянь» («хорошее-то всякий купит, а ты вот плохое купи»). Авангардистский молодняк не переносил на дух и даже выпустил в 1910-м анонимный донос на закрытую, то есть не публичную выставку с участием «эстетички» Гончаровой (попутав и имя, и отчество). Картины арестовали. Однако в конце 1920-х стал общаться с Удальцовой, ценя ее уральские вещи, и с Лентуловым. Между тем привезенный из Казани гончаровский кубофутуристический «Пейзаж с поездом», обосновавшийся неподалеку от «Переселенки», – из числа самых жизнеутверждающих в экспозиции работ. Искусствовед Софья Багдасарова разбирает в каталоге самопрезентацию и отчасти мифологизацию Гиляровского (в том числе «искусственную», «веселую» фамилию). А москвовед Алексей Дедушкин – карту его московских адресов, многие из которых уже стали виртуальными.
В залах «Гиляровский-в-картинках» ведет путь от болота до велосипеда. Все там и начинается: под любимый былинный зачин главного героя о детстве средь «дремучих лесов» да болот предстает соответствующая картинка Юлия Клевера. Эпизод с потерпевшим псом Жужу и поркой неугомонного мальчишки, «амплуа» бурлака, циркача, актера, вояки, репортера и всеобщего знакомца, последующее смещение фокуса выставки на Москву – иллюстрируются подробно, иногда в два ряда.
Музей не боится смешивать произведения первого ряда со всеми прочими, не пытаясь выдать «прочие» за шедевры. В плотно устроенном маршруте попадаются необычные акценты. Плечом к плечу – цирковые арены символиста Сапунова и будущего соцреалиста Бориса Иогансона, которые в 1900–1910-х еще казались соседями и в смысле живописной сути. Сапуновский «Трактир» в соответствующем разделе глядит прозрачной пародией 1912 года на репинских «Запорожцев». К слову, когда в 1871-м Гиляровский тянул лямку, Репин уже занялся «Бурлаками…», но сами они сведут знакомство только в 1880-х. И если подтверждений тому, что Гиляровский позировал художнику как раз для «Запорожцев», нет, то на знаменитом андреевском памятнике Гоголю Тарас Бульба – тот самый «король репортеров».
Спор старого и нового не стихает, и рисованный Владимиром Маковским портрет спившегося Саврасова меркнет в прошлом, уступив место взрывной энергии цвета и шаржированных форм «Артистического кафе» 1920-х у Валерия Алфеевского. В то же время Генрих Фогелер нерешительно и неубедительно пробовал приладить выдыхающийся кубофутуризм к первомайской демонстрации. А будущий соцреалист Александр Герасимов старательно иллюстрировал «От Английского клуба к Музею революции» Гиляровского.
Паустовский назвал приятеля Гиляровского «бродильными дрожжами, искристым винным соком… чистейшим образцом талантливого нашего народа». Сам Гиляровский более цельным кажется в каталоге, но про «наш народ» и дрожжи с соком на выставке много и насыщенно. Для беспробудно серых осенне-зимних дней, в формате семейного просмотра, с ассортиментом форматов старого и нового, наверное, самое оно.