
|
|
Автор фантастических, исторических и социальных романов Александр Вельтман. Иллюстрация из книги «Сто русских литераторов». Издание книгопродавца А. Смирдина. Т. 2. 1841 |
– Ах, чертов клубок, как покатил! Его не догонишь! – вскричал Емельян Герасимович, приударив обеими ногами по бедрам. И поскакал за клубком во весь опор. Клубок вправо, и он вправо, клубок влево, и он влево. «Тише, проклятый!» Не слушает клубок, скачет себе; скачет и Емельян Герасимович, и выскакал клубок на тропинку – туда, сюда и вдруг исчез.
– Экая свинья! – вскричал Емельян Герасимович. – Не видали ли вы, прокатил здесь? – спросил он у встречных крестьян.
– Заяц? Видели, барин».
Это отрывок из романа Александра Вельтмана «Новый Емеля, или Превращения» 1845 года. Его герой подумал, что встретил Бабу-ягу и та подарила ему клубочек, указывающий дорогу. Возможно, именно так в русской литературе появился герой нового типа – везучий дурачок. Почему бы нет? Спустя почти 25 лет, в 1869 году, такого героя предложит Федор Достоевский в «Идиоте». Такое вот отношение к безмерно доброму и наивному человеку присуще в обществе – как к непонятному, излишне оригинальному, в чем-то чуждому и неизвестно за какие заслуги везучему.
Есть в герое вельтмановского романа беззащитность, таких на Руси таких называли юродивыми. Еще крошкой Емелю взяла на воспитание помещица Наталья Дмитриевна, держала в строгости. И он научился выполнять все ее требования дословно, что доходило до абсурда. Особенностью уже повзрослевшего Емели стало умение все перевести в шутку – посмеяться над самим собой.
Русскому писателю шведского происхождения Александру Фомичу Вельтману, которого считали предтечей Достоевского и Гоголя, называли «русским Эдгаром По», родоначальнику исторического фэнтези, переводчику «Слова о полку Игореве» исполнилось 225 лет.
Родился он в семье мелкого чиновника, служилого дворянина, о которых говорят: великие труды и маленькое жалованье. Образование будущий писатель получал с перерывом на войну с Бонапартом, в 1817 году стал колонновожатым и уехал в Бессарабию, в то время – губернию Российской империи. Потому и первой его литературной работой стало исследование «Начертание древней истории Бессарабии», вышедшее в 1828 году. Впрочем, сам автор вел отсчет творческой карьеры от романа «Странник» – вероятно, потому, что свои юношеские работы он оценивал невысоко. Там же, в Бессарабии, в 1820-х годах Вельтмана как начинающего поэта представили Александру Пушкину. В 1825 году в петербургском журнале «Сын отечества» вышла вельтмановская повесть в стихах «Беглец», в 1831 году она была напечатана отдельной книжкой.
В 1830 году вышел первый прозаический текст Александра Вельтмана – вышеупомянутый роман о путешествиях «Странник». Вельтман далеко не был основателем жанра травелог (путевой очерк). Однако подошел к нему весьма по-своему. Еще XV веке Афанасий Никитин написал «Хождение за три моря», его и считают основателем традиции русских текстов о путешествиях. Сочинение Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», вышедшее в 1790-м, было скорее публицистикой, нежели полноценной беллетристикой. Возобновил интерес к жанру Николай Карамзин в «Письмах русского путешественника» 1791–1792 годов, за ним последовали и другие. Тексты в большинстве своем получались сентиментальные, созерцательные. А вот Вельтман написал своего «Странника» иначе: «Собираясь в дорогу, я еще должен осмотреть свое воображение. Подобного коня должно гладить, чистить и холить, кормить мозгом, а поить жизненными соками. Зато едва ногу в стремя... Распахнулись крылья, хлоп задними ногами в настоящее... Глядишь – он уже в будущем или прошедшем, на том или другом полюсе, на небе или под землей, везде и нигде – чудный конь!»
Как ни странно, но именно это воображение, писательскую фантазию, «вычурность вымысла» фантаста Вельтмана считал помехой для признания его произведений серьезной литературой критик Виссарион Белинский. Хотя в целом писателя он ценил очень высоко: «Г-ну Вельтману суждено играть довольно странную роль в русской литературе. Вот уже около пятнадцати лет, как все критики и рецензенты, единодушно признавая в нем замечательный талант, тем не менее остаются положительно недовольными каждым его произведением. По нашему мнению (которое, впрочем, принадлежит не одним нам), причина этого странного явления заключается в странности таланта г. Вельтмана. Это талант отвлеченный, талант фантазии, без всякого участия других способностей души, и при этом еще талант причудливый, капризный, любящий странности. Вот почему нельзя без внимания и удовольствия прочесть ни одного произведения г. Вельтмана и в то же время нельзя остаться удовлетворенным ни одним его произведением. Встречаете прекрасные подробности – и не видите целого; поэтические места очаровывают ваш ум – и сменяются местами, исполненными изысканности, странности, чуждыми поэзии; а когда дочтете до конца, спрашиваете себя: да что же это такое, и к чему все это и зачем все это? Особенно вредит автору желание быть оригинальным; оно заставляет его накидывать покров загадочности на его и без того довольно неопределенные и неясные создания».
Хотя фантастику Виссарион Григорьевич вообще-то не жаловал, но Вельтмана читал с удовольствием и талант автора признавал. Даже Лев Толстой, который вообще мало кого хвалил, рекомендовал Александра Фомича Максиму Горькому: «Хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя».
Популярность Вельтман приобрел сразу после издания «Странника», и росла она постоянно – от произведения к произведению. В 1837 году вышла даже подделка под него – «Ротмистер Чернокнижник, или Москва в 1812 году».
Отдельного разговора заслуживают исторические повести Вельтмана. Еще Пушкин задумывал роман о князе Святославе Рюриковиче, но не создал его. А вот Вельтман в 1843 году выпустил повесть «Райна, королевна болгарская». В ней речь идет о походе князя Святослава в Болгарию, подробно описанном в «Истории Государства Российского» Карамзина. Вельтман пишет об освободительной миссии России. Провоцирует поход Византия, ее дипломаты подбивают Святослава «обнажить свой меч на непокорных и насилующих Грецию болгар». Однако поход, который поначалу можно было назвать захватническим, быстро становится освободительным. А еще в произведении есть то, чего нет в исторических источниках – история любви русского князя и королевны Райны, дочери болгарского царя Петра, а также их трагической гибели.
Вельтман и до «Райны…» писал исторические повести – к примеру «Кощей Бессмертный» и «Светославич, вражий питомец». Однако в них созданы скорее сказочные образы, нежели исторические. И логика повествования – тоже. Иное дело – «Райна…». В повести есть фольклор, но не откровенная сказочность. Автор активно использует летописи и былины, приводит фрагменты «Слова о полку Игореве» и песенные тексты. Однако образы у него получаются реалистичные: «Врагов Святослав любил более, нежели друзей, и боевой встрече с ними радовался более, нежели победе. Победа давала мир, а он боялся миру».
Современный болгарский исследователь Николай Райнов написал о повести: «Эта история на средневековый сюжет, помимо исторического содержания, близкого каждому болгарину, привлекла внимание еще и трогательным до слез сюжетом. Автор не следовал точно историческим фактам, но и болгарские читатели не были особенно придирчивы, да и сама болгарская история не была достаточно разработана».
Вершиной творчества Вельтмана считается социально-бытовой роман «Приключения, почерпнутые из моря житейского». Появившиеся в нем персонажи также дали богатую почву для последующих поколений русских писателей. В центре повествования «маленький человек», честный Увалень, мир которого жестоко нарушает аристократ-эгоист Чаров – так и вспоминается «лишний человек»: «В море житейское впадают разные реки и потоки, вытекающие из гор, озер и болот, образующиеся из ливней и тающих снегов и так далее. У каждого народа свое море житейское. У одного оно авксинское, у другого – эвксинское, белое, черное, красное, синее и т.д. Из числа случайных потоков, которые текут не по руслу, а как попало, был Чаров». Честность и благородство души за Увальнем, но они становятся все менее и менее востребованными.
Об этом романе критика также высказалась противоречиво. Белинский писал: «Г-н Вельтман обнаружил в новом своем романе едва ли еще не больше таланта, нежели в прежних своих произведениях, но вместе с теми тот же самый недостаток умения распоряжаться своим талантом. В его «Приключениях» толпится страшное множество лиц, из которых многие очеркнуты с необыкновенным мастерством; много поразительно верных картин современного русского быта, но вместе с тем есть лица неестественные, положения натянутые, и слишком запутанные узлы событий часто разрешаются посредством deus ex machina. Все, что составляет слабые стороны «Приключений», вышло из намеренного желания г. Вельтмана доказать превосходство старинных нравов перед нынешними».
Вельтман был не только беллетристом, но и достаточно серьезным переводчиком и ученым. В 1833 году вышел его перевод «Слова о полку Игореве», писатель изучал античные, византийские, арабские, древнеиндийские, средневековые немецкие и скандинавские сочинения, подготовил собственный комментарий к Тациту, переводы из «Махабхараты», «Яджурведы» (одной из четырех индийских вед), а также «Прорицания вёльвы» – древнеисландских песен о богах и героях. Его роман «MMMCDXLIII год. Рукопись Мартына Задека» заложил основы русской футурологии.
Как в годы ученичества юный Вельтман полюбил в равной мере литературу и математику, так и в своих зрелых текстах он часто выступал как основательный исследователь. Но мы любим его как одного из основателей русской литературной фольклорной сказки.























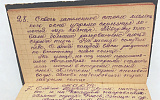


комментарии(0)