 Оригиналы Красноярска не забывают Виктора Астафьева.
Фото Андрея Щербака-Жукова
Оригиналы Красноярска не забывают Виктора Астафьева.
Фото Андрея Щербака-Жукова
Каждый, как умеет, организует в голове взаимодействие шариков с роликами. У большинства первое никогда не заходит за второе, но счастливчики все же есть. Есть те, кто может позволить себе небольшое безумие, не только оставаясь в ладах с реальностью, но и понимая эту самую реальность еще острее, глубже, объемнее. Таких удивительных людей называют оригиналами, и Россия, без сомнения, была, есть и будет в мировых лидерах по их количеству.
Огромный вклад в это лидерство внесли сибирские оригиналы. Вот только несколько имен: Егор Летов, Леонид Гайдай, Михаил Успенский и, конечно же, Виктор Астафьев, который всю свою жизнь прожил в Красноярске. Поэтому нет ничего удивительного, что именно Астафьеву посвящен сборник прозы «Красноярские оригиналы».
Открывают книгу два мемуарных очерка от классика красноярской литературы Александра Астраханцева. Выбор вовсе не случаен. Это выверенное решение. Автор с первых же страниц погружает читателя в систему координат Красноярска, используя все возможные оси – бытовую, географическую, межличностную, историческую и (как без нее?) материальную. В первом же очерке Астраханцев вспоминает Астафьева, которого неплохо знал и которого смог разобрать не банально по косточками, а, как он сам сформулировал, на личины. Автор настаивает: «Некоторые выразили мне свое недоумение по поводу слова «личины», несущего будто бы резко отрицательный смысл… Дело в том, что Виктор Петрович, как, наверное, всякая крупная личность, был личностью сложной и многогранной, причем наиболее глубинные стороны ее он, особенно на людях, явно любил прятать, маскировать за «личинами», и они, похоже, накрепко прирастали к его истинному лику».
Всего личин набралось четыре, и каждая из них разобрана подробнейшим образом: с примерами из жизни и философскими обобщениями. Воспоминания получились жесткими, но справедливыми и от этого увлекательными, пропитанными нервным напряжением. Второй очерк, посвященный художнику Андрею Поздееву, вышел мягче, комплементарней. Представитель авангардной живописи Сибири показан человеком несгибаемой воли, по-сибирски суровым по отношению к себе и своему творчеству. Но не по отношению к другим – к другим он был всегда гостеприимен. Поздеев – это ангельская, наивная сущность.
Похожей сущностью (в той или иной мере свойственной, видимо, всем красноярцам) обладают и герои Сергея Задереева. Его рассказы – это глубокие психологические исследования проблем не просто современного сибиряка, но вообще человека. В таком же стиле работал Сол Беллоу, получившей Нобелевскую премию с формулировкой «За сочетание в своих произведениях тонкого анализа современной культуры и удивительно глубокого понимания человеческой природы». С некоторыми оговорками изложенное подходит и к Задерееву. Судите сами: «Пенсии Ольга ждала как избавления, как солдат дембеля и даже больше, а покинув надоевшую пекарню под красивым именем «Соломка», что притаилась от налоговой на окраине города, и больше года не смогла на свободе. Да и как она смогла бы, член партии с 1986 года, живущая по принципу «нам света не надо, нам партия светит, нам денег не надо – работу давай!».

|
|
Красноярские оригиналы: Повести, рассказы, воспоминания.– Минусинск, 2024. – 528 с. |
Евгения Попова таким вряд ли шокируешь. Он и сам горазд насчет шокирующих деталей в своем творчестве. Писатель представил в сборнике 18 рассказов. В их число вошли знаковые для автора. И эпитет «знаковые» – не субъективная оценка. Об этом пишет сам Попов: каждый рассказ он сопроводил пояснениями, обладающими убойным эффектом. Вот, например, комментарии к произведению «Полярная звезда»: «Этот рассказ гениально читал в своих программах покойный Сергей Юрский. Я считаю, что он читал лучше, чем я написал. Слово «пфимф» изобретено мною самолично. Великий актер рассказывал мне, что для него, как для чтеца, эта фраза была очень важна. Если при произнесении этой фразы в зале стоит мертвая тишина – он своим мастерством выиграл соревнование у зрителей, если они смеются или хрюкают – проиграл». Вот как после этого не перечитать рассказ? Листаешь обратно, а в голове навязчиво крутится: «пфимф, пфимф, пфимф». Как вдруг приходит понимание, что «пфимф» – это квинтэссенция человека. Крепко берет тогда за душу. Василий Шукшин, прочитав другой рассказ Попова – «Обстоятельства смерти Андрея Степановича», резюмировал так: «Заплакал человек, и у меня тоже горло сжалось. И – вся правда про человека».
Заканчивают сборник две повести Эдуарда Русакова, написанные с промежутком в 30 лет: «Синеглазый скрипач» (1974) и «Мертвая хватка первой любви» (2004). Разница между ними колоссальная, но есть две вещи, которые объединяют их капитально. Повествование от первого лица и поволока безысходности, беспомощности человеческого существования. Даже синеглазый скрипач Иисус расписывается в своей профнепригодности: «Я могу сделать вас великанами, я могу превратить вас в карликов, – монотонно бубнил Иисус, – я могу дать каждому по мешку золота, я могу предоставить вам сто тысяч бомбардировщиков с водородными бомбами и сто тысяч крылатых ракет… Но не хочу! Я хочу сделать вас счастливыми, но не могу».
Жаль, конечно. Хотя… может, и не надо? А то ведь скучно это, когда вокруг все счастливые и ни одного оригинала. Но если все же представить на минуточку, что утопический мир восторжествовал, то красноярские оригиналы по крайней мере уже застолбили себе место в истории. После них останется замечательный сборник, который (нет никаких сомнений) станет ценным источником для будущих исследователей русской оригинальности. Самой моральной и парадоксальной из всех возможных.























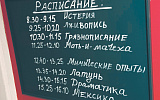



комментарии(0)