
20.08.2025 20:30:00
Дома – это корешки книг
Николай Звягинцев о почерке архитекторов, царапинах на небе и мирах тысячелетней давности
Тэги: архитектура, поэзия, айги
Николай Николаевич Звягинцев (род. 1967) – русский поэт, переводчик китайской поэзии, дизайнер. Родился в Подмосковье. Окончил Московский архитектурный институт, занимается графическим дизайном в сфере рекламы. Автор семи стихотворных книг. Стихи публиковались в антологиях «Самиздат века» и «Девять измерений», журналах «Воздух», «Волга», «Знамя», «Новый мир», альманахах «Вавилон», «Авторник» и др. С начала 1990-х – участник поэтической группы «Полуостров». Стихи переведены на английский, испанский, итальянский, немецкий, французский и многие другие языки. Шорт-лист Премии Андрея Белого (2008, 2017); стипендиат Фонда памяти Иосифа Бродского (2009), лауреат Большой премии «Московский счет» (2013). В последние несколько лет переводит китайскую поэзию – как современную, так и средневековую; в Китае вышло несколько книг его переводов. Живет в Москве.
 Маршрут 28-го трамвая – родина слонов. Фото Николая Звягинцева
Маршрут 28-го трамвая – родина слонов. Фото Николая Звягинцева
В ближайшее время ожидается выход новой книги Николая Звягинцева «Мой двадцать восьмой», где автор, рассказывая об архитектуре Москвы, ставит задачу сделать краеведение пространством для творчества. Об обществе «Белок», архитектуре в поэзии, трамвае 28 и многом другом с Николаем ЗВЯГИНЦЕВЫМ побеседовал Игорь СИД.
– Николай Николаевич, кто-то из критиков выделил в вашем поэтическом творчестве мощный синестетический элемент. Чем важен для вас феномен синестезии?
– Когда одно чувство активирует другое – это и есть поэзия. Мы становимся поэтами, когда начинаем сравнивать несравнимые вещи. В «Альтисте Данилове» есть фраза «Из черно-синей оперы Гуно» («Фауст», конечно) – и это кажется совершенно естественным, что у музыки может быть цвет. В ранней юности, когда первый раз прочитал сонет Артюра Рембо «Гласные», решил его нарисовать; эта картинка до сих пор висит у меня над столом.
– Для вашей поэзии характерно тяготение к экфрасису (подробному описанию произведения изобразительного искусства (живописи, архитектуры, скульптуры) внутри литературного текста. – «НГ-EL»). Можно ли объяснить это биографически – какими-то ранними впечатлениями, или психофизиологически (особенности восприятия)?
– Хорошо уметь видеть сны. Взаправдашняя жизнь, которой только что не было, мимолетно поселилась у тебя в голове, а утром ты пытаешься сначала вспомнить, а потом рассказать, что ты видел. Как ни странно, я до сих пор помню в подробностях (а значит, воспринимаю уже в виде текста) многие свои детские сны. Подозреваю, что эти живые картинки сильно повлияли на мои стихи.
Или из уже «взрослого» опыта: несколько лет назад я участвовал в проекте Чебоксарского художественного музея в рамках выставки «Поэты круга Айги». Несколько поэтов получили инвентарные описания картин музея (самих картин мы не видели) – скупые канцелярские тексты. И нужно было, отталкиваясь от них, написать цикл стихотворений об этих картинах. Мой назывался «Справа вверху на небе царапина» – строку подарила одна из инвентарных карточек. А потом мне показали эти картины: совершенно невообразимая радость узнавания того, чего прежде не видел.
– Визуальность вообще – важнейшая характеристика (и компонент) вашего творчества? Архитектор по образованию, дизайнер по профессии… Вы оформили в том числе множество книг литературных друзей и коллег.
– Да, я всегда был больше визуальщиком. Мне легче и интереснее представить. А потом решить, стоит ли этим делиться. Шутка.
Это ведь очень важно для поэта: видеть то, что не видят другие. Даже на уровне текста: как он устроен, как что работает. Как за черными буковками возникают цвет, звук, воздух и так далее. То же самое с любыми, даже самыми сложными картинками: предмет, дом, целый город и так далее. Архитектурное образование очень этому способствует: помимо специальных и технических дисциплин оно включает рисунок, живопись, скульптуру, историю искусства. Самое простое: прохожий оценивает дом по плоской картинке его фасада, а архитектор идет от плана к объему, что дает возможность своеобразного взгляда изнутри.
Я люблю оформлять книги, свои и чужие. Мы оцениваем стихи по отдельности, но когда они собираются в книгу, под одной обложкой, очень важно поймать ее образ: это как первое впечатление, как мгновенное выражение лица, которое запоминается навсегда.
– Один из новых ваших проектов, геопоэтический по содержанию и медийный по форме – «Мой двадцать восьмой», посвящен одному из московских трамвайных маршрутов. В чем его задача и сверхзадача?
– Да, это один из моих главных сегодняшних проектов, и я рад, что скоро он «развиртуализуется»: в этом году выходит книга. Не повторяющая проект (это сложно, да и бесполезно), а переводящая его в другое измерение.
Собственно, мой любимый маршрут московского трамвая под номером 28 – та самая точка отсчета, к которой привязано все остальное. Цель проекта – сделать краеведение пространством для творчества. Составляющие его тексты и видеоролики не только и не столько о трамвае. Они об архитектуре и городском пространстве; о том, как город соотносится с литературой, изобразительным искусством, музыкой, кино, задокументированной и устной историей. Здесь самое главное – именно эти связи в пространстве и времени, «собирающие» городское пространство. Я это вижу, я готов этим поделиться и, возможно, даже научить других.
Проекту больше трех лет, он ежедневно пополняется визуализированным текстом о каком-то сооружении; таковых уже больше тысячи. Безумно интересно изучать авторские истории архитекторов, их почерк, пересечения, взаимное влияние: дома на улице обретают имена, на них можно смотреть, как на корешки книг на полке.
– Чем так вдохновляет вашу фантазию искусство архитектуры?
– «Архитектура – музыка в камне» и так далее. Мы используем подобные застывшие цитаты, описывая свои жилища и города, а ведь речь о живом, постоянно развивающемся организме, которому нужно внимание и присутствие людей. Ему необходимо, чтобы его чувствовали и говорили с ним на понятном языке. Водили пальцем по строчкам, как и со стихами. Это же так увлекательно и неисчерпаемо.
– Когда-то вы рассказывали, как целые сутки чистили «Комсомольскую площадь от снега». Речь шла о трудах компьютерных: единственное фото городского пейзажа, предоставленное заказчиком как локация будущего проекта, оказалось зимним, а на дворе лето... Какое место занимает в вашей жизни мистификация?
– Теперь с уборкой снега на Комсомольской площади гораздо лучше справится искусственный интеллект. А поэтические мистификации, особенно игры с авторством, я очень люблю.
Есть замечательные примеры придуманных поэтов – Черубина де Габриак, Федор Терентьев, Ника Скандиака. Есть гетеронимы (у Фернандо Пессоа их чуть ли не больше сотни). В 2016 году был проект под названием «Анонимная антология»: большое количество авторов предоставило издательству подборки из ранее не публиковавшихся стихов, которые нельзя было выудить из интернета. Получилась своеобразная дегустация вслепую: оценивали только текст, а не личность автора. Кстати, для кого-то из поэтов эти оценки были сильным ударом по самолюбию: они не получили того, к чему привыкли за счет имени и литературной репутации.
Поэты легко ранимы, чувство юмора есть не у всех. С розыгрышами надо осторожней.
– В поэтической группе «Полуостров» вы исполняете особые обязанности «коменданта» – с чем связана эта роль?
– Эта должность – «маленькая зеленая собачка» в мифологии группы. Есть история про художника Владимира Фаворского: когда ожидалась строгая приемная комиссия, он рисовал в углу графического листа маленькую собачку зеленого цвета. Все, разумеется, обращали на нее внимание и просили убрать, а он с жаром доказывал, что это то, без чего картина не картина. Потом, после долгого скандала, доставал ластик и стирал собачку, после чего работу утверждали, не обращая внимания на остальное. Вот и здесь – чтобы все спрашивали: что это, почему комендант? А мы говорим: это легенда группы, она зародилась… А дальше можно просто рассказывать и читать стихи.
– Некоторые особенности вашей поэтики компаньон по «Полуострову» Андрей Поляков объясняет влиянием на раннего Звягинцева раннего Пастернака. А где вы сами видите свои возможные истоки?
– Ранний Пастернак – из неизбежного общего круга подражательства, поэтому немудрено, что где-то могут торчать и такие уши. Но, на мой взгляд, – скорее Саша Черный и Владислав Ходасевич.
– Лет 15 назад вы стали одним из соучредителей литературной группы «Белки»…
– Несколько поэтов условного среднего возраста однажды задумались о тех, кто идет им на смену, и придумали историю: в следующей жизни мы будем белками в пансионате, где селят участников литературных фестивалей. Будем прыгать, стихи слушать, орехи клянчить. Сейчас в этом забавном сообществе уже более 30 поэтов. Для кандидата есть несколько условий, одно из которых весьма необычно: он должен уметь делать «нычки». Белка – общественный зверек: 80% орехов, которые она прячет, находят другие белки, а она соответственно чужие. Поэтам на заметку: это очень достойное литературное, да и человеческое поведение.
– Последние несколько лет вы занимаетесь переводами старой китайской поэзии...
– Да, это поэзия Танского и Сунского периодов и Шицзин. С одной стороны – счастливая возможность посмотреть на очень далекий от нас мир собственными глазами, а с другой – учиться (это не слишком просто) видеть глазами поэтов, живших в этом мире. Несмотря на то что древние стихи выглядят на удивление современно (увы, мы ждем от Китая китайщины, и переводчики часто боятся подобные ожидания обмануть), это, конечно же, совсем другой, отличающийся от русской традиции, поэтический язык: другая система координат, в которой одно (возможно, привычное) отзывается другим, совсем незнакомым. Когда переводишь первое стихотворение, кажется, что двигаешься наощупь. А дальше становится все яснее и понятнее, и понимаешь, что чему-то научился; что можешь распоряжаться этим умением.
– Говоря в терминах тотемократии, ваша жизнь проходит под знаком Барсука. Чем человечество обязано барсучеству? И чем лично вы?
– Тотем – это очень личное. Скажу лишь, что чем больше я узнаю людей, тем сильнее люблю барсуков.
 Маршрут 28-го трамвая – родина слонов. Фото Николая Звягинцева
Маршрут 28-го трамвая – родина слонов. Фото Николая Звягинцева



























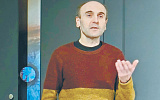


комментарии(0)